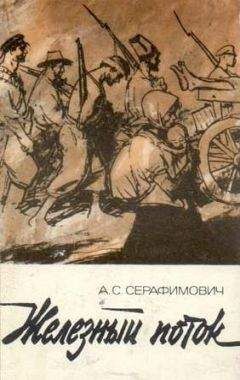…Как и у всех, у ткача Ивана Вязалкина в каморке голодно, неуютно. Татьяна, баба его, тоже ткачиха, злая, замученная, кости торчат. Кричит на ребятишек.
– У-у, ироды проклятые! Ну, чего вам?.. Кофеев, да чаев вам… Не натрескаетесь? Только б жрать с утра до ночи…
Мальчик и девочка, подростки, сидят на скамье, глядят на нее огромными глазами, ничего не говорят, а мать слышит:
– Мамм, поисть бы…
Тогда баба оборачивается и кричит исступленно на стариков:
– Вы еще тут, старое дерьмо, навязались, смерти на вас нету. Отжили век, ну, пора и честь знать!
Старики – отец Татьяны и мать Ивана – покорно моргают красными облезлыми веками, затуманенно глядя перед собой, – забыли радость, забыли ласку, тепло, свет; да и было ли это когда-нибудь?..
А баба уж к мужу:
– А ты, идол!.. Вот навязался на душу мою грешную… чем бы об семье подумать, а он бунтует фабрику, окаянный! Ты мне, Мишка, ежели от отца будешь бегать с листочками, голову оторву! Знаешь, за эти листочки жандармы зараз в тюрьму. Тут осень, зима идет; ни одежи ни обужи, надо дров запасать, дети – голые. Мишутку али так и не сводим в училище? Ды головушка ты моя бедная… ды зачем ты мене, матушка, ды на свет породила… ды разнесчастная-а… о-о-о… ой-ей-ей…
– Цыц, т-ты, сстерва!..
Стукнул волосатым кулаком по столу – стол затрещал.
– Развылась, покою от нее нету. Давай суды гривенник, давай, те говорят, а то две половинки из те сделаю!
– Не дам… не дд-а-ам… ой, не да-а-ам… караул-ул!
Закричали дети. Завозились старики.
Дверь распахнулась, на пороге – дьячок с дымящимся кадилом.
– Что у вас тут за штурма? Али оголтели?.. У людей престольный праздник, а у них драка. Принимайте батюшку.
– Ох ты, окаянные мы… да што это мы…
Татьяна быстро поправила растрепавшиеся волосы и кинулась затепливать прилепленный к закопченной доске в углу восковой огарок. Иван обдернул рубаху.
Вошел поп и, не здороваясь, ни на кого не глянув, замахал кадилом:
– Благослове-ен господь…
Дьячок закозлил. Татьяна кинулась на колени и со слезами больно давила себя тремя пальцами в лоб, в тощий живот и в каждое плечо, исступленно глядя на мерцающий огарок. Не успела она рассказать черной доске свое неизбывное горе, а уж поп:
– …во имя отца… аминь, – и ткнул каждому в зубы тяжелый холодный крест.
Татьяна набожно приложила иссохшие губы к холодной, вызолоченной меди и положила в руку попа два пятака. Да вдруг не выдержала и зарыдала:
– Батюшка, мочи нашей нету… замучились… голодные, холодные, с ранней зари до поздней ноченьки за станком, а принесешь получку, глядеть не на што…
– Господь терпел и нам велел. Сказано убо: не пещитесь о земном, ибо господь ваш уготовал вам небесное… Нет пред господом больше вины, как ропот. Терпите, и дастся вам.
И пошел по другим каморкам.
Стол ломится
У хозяина фабрики тоже встречали престольный праздник.
В громадной столовой протянулся огромный стол. И чего только тут нет: и заморские вина, и фрукты, и сладости, и закуски, и блюда, каких и не выдумаешь.
Хозяйка – белотелая, в дорогом платье из Парижа, с множеством сверкающих бриллиантами колец на руках и по груди голая.
И дочка голая, сама вся сверкает бриллиантами: и булавки бриллиантовые, и застежки бриллиантовые, и гребни в волосах бриллиантовые, и брошки бриллиантовые – так вся и сверкает на свету, так вся и играет переливающимся блеском.
У папаши – фабрикантское брюшко и по брюху – собачья толстая золотая цепь.
Гости: директор фабрики с дочкой, несколько инженеров, соседние фабриканты с женами и жандармский офицер. Не приступали к еде, ждали священника.
Пришел и поп в шелковой рясе, с большим золотым крестом на груди. После рабочих он принял ванну, побрызгался одеколоном и теперь с преданно-собачьим лицом именем Христа, простерши холеные руки, благословил яства и пития. Все шумно стали усаживаться, и усаживались в известном порядке: во главе стола хозяйка, хозяин и дочка, фабриканты, а в конце – директор фабрики с дочкой, и у обоих умиленные лица, на которых – готовность каждую минуту вскочить, подать стул, поднять хозяйский платок. Посреди стола – поп с жандармом и скромно – фабричные инженеры.
Началось разливанное море – не успевали стоявшие за стульями лакеи наливать в бокалы пенистое вино. Гремел оркестр музыки.
– Да, неспокойно у нас среди рабочих, – проговорил поп, – распустился народ, ропщет, храм божий мало посещает. Особенно во второй казарме, в пятнадцатой каморке, молодой парень, Осипов, весьма беспокойный, такие речи говорит…
– Это – высокий, рыжий, – предупредительно наклоняясь, сказал директор.
– Да, высокий такой, смущает народ.
Жандарм мотает на ус, по-собачьи наставив уши. Всю ночь светился огнями фабрикантский дворец.
Кровь
Не узнать фабричных корпусов – не слышно всегдашнего гула, не дымят высокие трубы. По каморкам шныряют рабочие, да вдруг пронеслось по всем коридорам:
– Выходи, ребята, во двор… Пошли… Ге-э-ей, все!
И повалила черная толпа – женщины, дети, старики, молодые и бородатые рабочие, весь двор фабричный запрудили.
Прибежал директор с злобно перекошенным лицом, заорал, затопал, но толпа с ревом надвинулась на него, он сразу осел и заговорил с собачьей ласковостью:
– Товарищи рабочие…
– Кобель тебе товарищ!
– Кровосос!..
– Долой!..
– Уходи, пока цел…
– Хозяина сюда!..
– Освободить Осипова! За что вы его арестовали?..
– Пока не освободите, не станем на работу.
– Мочи нашей нету, все одно пропадать…
– Расценки увеличить!..
– Штрафы скостить!..
– Обращаться с нами как с людьми, не как с животными…
Стоял визг, шум, крики. Прижатый директор исчез. Замелькала полиция, синий мундир жандарма. И грозно и тяжко подошла серым строем рота.
Рабочие подняли на руки человека, чтоб видней и слышней его было, и он, натружая голос, закричал:
– Товарищи солдаты! Неужто вы будете стрелять в своих братьев? Ведь вы такие же труженики, как и мы. Мы только одного хотим – заработанного куска хлеба, человечьей жисти да чтоб ребята наши, как щенята, не дохли с голоду. Фабриканты жиреют нашей кровью…
– Ве-ер-но-оо!.. – взрывом заревели ткачи.
И куда ни глянешь – открытые чернеющие кричащие рты, как лес, мотаются поднятые кулаки, и во все стороны – только картузы, кепки, да платочки, да, как белая бумага, под ними истомленные бабьи лица, и, как разгорающееся зарево, тронул их горячечный румянец гнева, отчаяния, непотухающей злобы.
Офицер вынул саблю, крикнул:
– Вся власть передана мне как представителю воинской части. Требую немедленно прекратить агитаторские речи и разойтись. В противном случае будет дана команда к стрельбе.
Негодующий шум покрыл двор корпуса:
– Кровососы!..
– Ироды!..
Из-за рядов вывернулся поп и, придерживая широкий рукав, пошел к толпе, высоко держа крест.
– Братие! Во имя господа нашего Иисуса Христа молю вас утишить ваши сердца. Помните веление господа нашего Иисуса Христа, сына божия: властям предержащим да повинуются. Зачем же вы идете супротив воли царя небесного, который уготовал вам награду во царствии своем? Тут потерпите, а на небеси вам воздастся сторицею. Вот вы все говорите о хлебе, а Иисус Христос, сын бога живого, рече: «Не единым бо хлебом жив человек». И еще сказал нам господь Иисус Христос: «Кесарево кесареви, а божие богови», – значит, каждому свое. Вам господь послал вашу долю, вы и несите ее с кротостью и терпением и за это получите награду у господа под кущею райскою; хозяину вашему господь послал его долю, он ее должен нести…
– Пошел!..
– Вон!..
– Проваливай, долгогривый жеребец!
– Все вы – одна шайка… все вы заодно.
Поп спрятал крест и, согнувшись, нырнул за солдатскую шеренгу.
Офицер скомандовал:
– Пря-мо по толпе пачками!..
Взвыло бушующее море голосов.
– В своих?! В своих!..
– Нате… жрите человечину!.. – исступленно закричала высокая, костлявая распатлатившаяся ткачиха и разорвала на тощей груди рубаху, а на нее глядели винтовки, – жрите!..
А тот человек опять:
– Солдаты, или братьев и сестер своих, кровных своих будете расстреливать в угоду фабри…
Сабля, блеснув, опустилась, и огненно брызнула команда:
– Пли…
Никто не слышал залпа, видели только, как повалились, вскидывая руками, люди; повалился Иван Вязалкин, без крика повалилась ткачиха с разорванной на груди рубахой; быстро стала кроваветь земля под лежавшими в уродливых позах.
Через час поп в черном, полосатом от белых позументов, расходящемся книзу балахоне, с белым крестом на заду, мотал кадилом над длинным рядом мертвецов, аккуратно лежавших вдоль стены со сложенными руками и закрытыми веками; запекшаяся кровь была смыта.