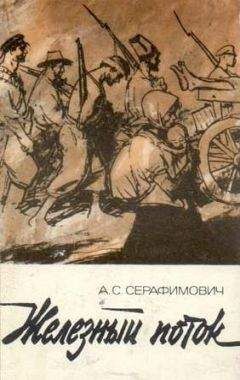– Со-о свя-а-ты-ы-ми у-у-по-ко-о-ой…
Мягкое сердце
Как и всегда, дымятся трубы, трясутся, гудят корпуса; в привычном хомуте напряженно следят за мелькающей основой ткачи, и бледно-зелены их лица, и в черных ямах померкшие глаза, – все как было.
Только в доме фабриканта по-новому: прибавилось заботы. Вся семья в сборе. Хозяйка сидит за столом и составляет список пострадавших семей – добрая душа. Дочка хозяйская вместе с дочкой директора шьют распашонки для маленьких сирот и весело щебечут с кавалерами.
– В семье Вязалкина, – читает по списку фабрикантша, – нет самого. Остались: жена Татьяна, вполне трудоспособная, сын двенадцати лет, дочь шестнадцати, старик и старуха. Ну, как с ними?
Фабрикант поиграл брелоком у часов, поглядел в окно, слегка зевнул и сказал:
– Вязалкину опять можно поставить к станку, хоть и строптивая баба. Старика – в сторожа, он еще может работать. Старуху – в богадельню. А мальчишку пусть уж мать содержит. Да и дочь, она уж большая, ее тоже можно к станку.
Молодой человек, сын фабриканта, вслушался и сказал:
– Маман, вы возьмите девочку третьей горничной, вот семья и обеспечена.
– Милый мой Жорж, какое ж у тебя доброе сердце, – фабрикантша притянула сына за голову и поцеловала в надушенный пробор.
Пришел поп. Тоже стал помогать советами, как кому помочь.
– Истинно говорю вам, доброта ваша и отзывчивость безграничны; у господа милости неизреченные, и он ниспосылает вам дары свои.
Весна
Пришла весна. По свежим могилкам побежала мелкая травка. Птицы разорялись. Небо было высокое и синее, и без устали всех обливало солнце сверкающим теплом.
Все так же, как и всегда, дышали закопченные трубы и гудели и тряслись фабричные корпуса от тысяч мотавшихся в них станков – без устали.
Так же за станками качались, наклонялись землистые, с прозеленью лица, с зорькой становились на работу, к вечеру расползались по казармам, очумелые от усталости. Все как было. Как будто не было залпа, как будто не лежали мертвецы длинным рядом вдоль стены, как будто всосалась, ушла в землю пролитая человеческая кровь, потушила собою возгоравшийся пожар ненависти, отчаяния, борьбы.
Потушила? Нет. Гудят и гремят станки, неуловимо снуют челноки; как сухой туман, виснет никогда не падающая пыль; качаются землистые лица. Качаются землистые лица, и невидимо, незримо тлеют искорки ненависти, тлеют искорки подавленного отчаяния, тлеют искорки глубоко запрятанной готовности борьбы. Незримо, невидимо тлеет искорка, ибо не залить ее даже дымящейся человеческой кровью.
Татьяна Вязалкина, как и все, качается, наклоняется над станком зеленовато-землистым лицом; как и все, покорно выслушивает матерную брань мастера, а когда улучит минутку, юркнет в отхожее и, оглянувшись, торопливо наклеивает на стенке листок, либо где-нибудь в проходе, либо на лестнице, и как ни в чем не бывало – опять у грохочущего станка.
А у листков толпится народ; читают, вытянув шеи, и уходят к станкам и уносят в сердцах незатухающую ненависть к рабьей жизни, искру готовности к борьбе.
Белые листки расклеивает Татьяна Вязалкина, – есть, есть в городе кто-то, кто их составляет, кто болеет о рабочей нужде, кого ловят и все никак не переловят ни полиция, Ни жандармы, ни шпионы. И разглаживаются слегка морщины на угрюмых лицах рабочих. Еще будет бой!
Раз пришли, гремя шашками и стуча об асфальт прикладами:
– Татьяна Вязалкина!
Она подняла землистое лицо от станка, землистое лицо, освещенное жгучей ненавистью непрощающих глаз.
Окружили, повели. Ткачи бросили станки, гурьбой вылились во двор, на улицу.
– Не дадим! Стой!.. За што берете?..
Грозно и тяжко нарастала волна, нежданно, негаданно по корпусам. Вдруг родился страх: забегали мастера, зазвонили телефоны, поскакал верховой от хозяина в полицию, в жандармское управление. Не пожар ли, не пробилось ли тлеющее пламя?
Женщина в рваном платке, с испитым лицом, с горящими ненавистью глазами, шла, и колыхались вокруг штыки, поблескивали шашки. Когда на углу заступила дорогу громадная толпа, женщина сказала:
– Слышьтя, ребята, не трожьте… От меня одной не убудет. Хочь и перебьете этих эфиопов, никаких толков не будет. А вы лучше стачку сготовьте. Не поддавайтесь!.. Наваливайтесь на хозяев! Прощайте…
– Не забудем тебя, Митревна, прощай! Мы свое возьмем, навалимся на иродов. Еще свидимся!
И пошла она, густо окруженная штыками. Поблескивали шашки.
Суд
– …по указу его императорского величества… – Голос у него был привычно громкий, уверенный.
Те, кто только что вошел в зал суда, осторожно сели среди дожидавшихся своей очереди и стали слушать приговор заканчивающегося дела.
– …я, судья пятого участка, постановил: жену рабочего завода «Глушков и Сыновья» Анну Павловну Железнову выселить в трехдневный срок из занимаемого ею, ее мужем и детьми подвала в доме № 25 по Большой Дворянской улице за неплатеж домовладельцу, купцу Битюгову, квартирных денег в сумме семи рублей пятидесяти копеек. Судебные издержки возложить на Железнову.
– Господи, да видь мой-то второй месяц без памяти лежит весь в огне, куды жа нам, на улицу?.. – отчаянно заголосила женщина с испитым, до смерти замученным, белым как мел лицом. – Дети-то чем же виноваты?..
Нет, не закричала, не закричала, а шла среди сидевшей публики к выходу, молча шла, вытянув худую шею; одного с завалившейся через руку головенкой несла, двое других – один поменьше, другой побольше, со струпьями на замазанных лицах, посверкивая под носом живыми серьгами, волочились, оттягивая юбку.
Шла молча, с безумно вытянутой шеей, как между каменных громад, и ничем их не сдвинуть, ничем их не стронуть, оттого что все, сколько тут ни сидело людей, – все (и она, сама), все твердо думали, что, если кто не платит квартирных денег домовладельцу, надо того выселить, и в этом – закон, и в законе – справедливость.
А судья с золотой цепью на шее сказал:
– Введите подсудимого Вязалкина.
Ввели подростка с землистым тюремным лицом. И отчего у них землистые лица?
– Ваша фамилия?
– Вязалкин.
– Сколько вам лет?
– Шешнадцать.
– Ишь, шестнадцать лет, а уж в тюрьму попал, – зашуршало среди публики, и неодобрительно заколебались перья на дамских шляпах, закачались жирные головы купцов, и торговки сложили губы кошелечком.
– Свидетели явились?
– Все явились.
Вышла к судейскому столу покупательница с гадючьей шеей, а под шеей кружева и бриллиантовая брошка, и рабочий-пекарь с бледным, одутловатым, в муке лицом и с исчерна-гнилыми пекарскими зубами.
– Батюшка, приведите свидетелей к присяге.
Поп привычно-размашистым движением просунул голову в епитрахиль, выпростал патлы, поднял зажатый в руке крест, а глаза к потолку, который был закопчен и засижен мухами. Все встали.
Голосом, в который вросла глубокая уверенность, что он, поп, огромная глыба в той громаде, которая каменно давит всех, кто судорожно дергается, кто хоть малейшее движение делает, чтобы выбиться из каменных стен, – поп, глубоко чувствуя силу своего колдовства, заговорил высоко, отчетливо, вдохновенно, а свидетели, подняв сложенные двуперстия, поклоняясь этой силе, повторяли:
– Обещаюсь и клянусь всемогущим богом перед святым его евангелием и животворящим крестом его, что, не увлекаясь ни родством, ни дружбой, ниже иными какими-либо видами, покажу в сем деле сущую о нем правду. Аминь!..
Поп так же привычно и быстро расседлался, завернул в епитрахиль крест, свое орудие оглушения, к которому приложились свидетели, и торопливо ушел, – отзвонил и с колокольни долой.
– Подсудимый Вязалкин, вы обвиняетесь в том, что тайно похитили булку из булочной купца Авдеева. Признаете ли себя виновным?
Мальчик молчал, глядя перед собой. Как и перед женщиной с тремя детьми, перед ним – стол, покрытый красным сукном, зерцало[3], здоровенная позолоченная цепь на судейской толстой шее, зал, наполненный публикой, решетка, а за решеткой – он, Вязалкин. И казалось ему: сидит он среди узко протянувшихся стен, которые давят его со всех сторон, и никуда не увернешься, никуда не вылезешь.
Он сидел и молчал.
– Ишь гад какой, упорный, как кремень, – сказал купец, нагибаясь к домовладельцу.
Стала показывать свидетельница и, ныряя гадючьей шеей пред судьей, шипела:
– Видно, что испорченный до мозга костей человек. Не попросил, как другие просят, а хитро и долго осматривался, – а я стою, наблюдаю, что будет дальше, пирожных к чаю брала, брат двоюродный с женой приехали, у них заведение фруктовых вод, так я взяла пирожных, – а он опять огляделся и все у кассы стоял, видно денег хотел стащить, да народу много было – никак нельзя; вот подошел к коробу, опять оглянулся, одной рукой стал сморкаться, а другую незаметно опустил в короб, вытащил булочку и под тряпье. А я как закричу-у: «Держите вора, держите!» – и вцепилась в него, чтоб он не убежал, даже пирожное помяла.