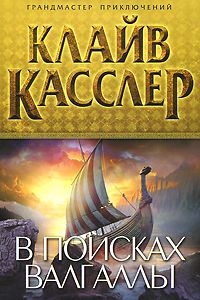А солнце поднялось высоко и припекало, и вода так манила к себе, что они быстро разделись и бросились в воду, и те брызги, что радужно поднялись от их падения, взошли вечером бледно-красными звездами на светло-темном небосводе. День для них проскользнул так быстро, как может проноситься с ошеломляющей скоростью только счастье. День этот для них был как вдох и выдох. Больше ничего, только вдох и только — выдох.
Настя варила уху, Антон ставил палатку. Когда она пошла к реке чистить рыбу, на мгновение испугалась: вдоль всего берега по Амуру лежали багровые дорожки. Было такое впечатление, словно бы река стала светиться изнутри. Настя опустилась к воде и сразу поняла причину этого: на сколько хватало глаз, до крутых излучин острова, пылали костры, поднимался вверх белый дым, человеческие тени призрачно метались у костров, и ото всего этого веяло человеческим родством, сопричастностью, так что Настя не выдержала и в восторге позвала:
— Антон!
— Ау!
— Тише… Иди сюда.
Он пришел, встал рядом и без объяснений все понял. Нельзя было не понять. Он обнял ее и стал тихо покачиваться, и для нее звезды в небесах и костры на земле перемешались, перепутались, и осталось только одно — счастье… Потом она вошла в воду, в красную дорожку от их костра, и вода была неожиданно теплой, ласковой, и, полоская карасей, она все время помнила, что там, на берегу, Антон, что через минуту она увидит его, и от этого чувствовала себя защищенной, покойной.
— Какая уха без вина? — спросил Антон.
— Конечно! — радостно ответила Настя.
— Дружина не воспрещает?
— Нет, — Настя засмеялась. Она вспомнила день знакомства и как он сидел напротив, совершенно незнакомый мужчина, да к тому же еще и выпивший. Казалось, что было это много лет назад и все эти годы она знает его.
— За что?
— За Остров!
— Согласен.
Они выпили. От соседних таборов доносились голоса, смех, где-то бренчала гитара, где-то хрипуче трещал транзисторный приемник, и все это вместе создавало особый фон, причудливое оформление начинающейся ночи.
Вино ударило в голову, хотелось что-то сделать, огромное, прекрасное. Настя тихо улыбнулась.
— Что?
— Да я дом вспомнила. У меня батька хороший. Пасечник. И брат, Степан. А жена брату ведьмачая досталась. Он целый год ее терпит, а раз в году напивается до смерти и тогда колотит. Сразу за все. Женился шестнадцати лет, ничего еще не понимал, вот и выбрал… Так вот, когда он ее колотит, она кричит: «Степша! А еще благородным зовешься», — Настя тихо засмеялась. — И почему она так говорит — никто не знает. Степка-то, господи, в тайге вырос, четыре класса едва осилил, какое уж тут благородство. Как у нас говорят: в берлоге жил, пеньку молился и вдруг — благородный. Умрешь с нее…
Стелил в палатке Антон, подсвечивая себе фонариком. Настя одиноко сидела у костра. Остров постепенно затихал, и лишь с Амура доносились заполошные голоса: кто-то еще купался в такую пору, кто-то не напился прошедшим днем и старался продлить его. А на Настю сошел покой необыкновенный, она прикрыла глаза и легонько покачивалась, обхватив колени руками, и легонько кружилась голова от прожитого дня, от звезд и костра, от выпитого под уху вина. Мягко плескались волны о берег, на дебаркадере глухо звякнуло что-то, и опять ночь, опять тишина, опять покой.
— Готово, Настя, — подошел к костру Антон, — можешь устраиваться.
— А ты?
— Я покурю еще.
— И я с тобой посижу.
— Ты устала, Настька, лучше иди отдыхай.
Она почувствовала, что он хочет побыть в одиночестве, легко поняла его желание и согласно ответила:
— Ага, Антон, устала. Пойду.
Она забралась в палатку и увидела, что он постелил отдельно. Стоя на коленях, Настя задумалась, наморщив лоб, потом улыбнулась и стала перестилать…
— Теперь я тебе все расскажу, — сказал ночью Антон.
— Может быть, не надо?
— Нет, Настя, надо.
Она лежала головой на его руке, и он осторожно перебирал ее волосы.
— Знаешь, Настя, я ведь детдомовский. С четырех лет туда попал. Отца и мать не помню. Кто они, чем занимались — не знаю. Может быть, и сейчас живут… Но не в этом дело. После детдома я закончил ФЗО, десятилетку, бегал в аэроклуб. Думал, что если хоть раз поднимусь в небо — больше мне ничего не надо. Но это ерунда, человеку всегда что-нибудь надо. После первого раза мне захотелось побывать там еще раз, потом на более высоких скоростях, потом — на более современных машинах. Так я попал в летное училище, закончил его с отличием и по праву отличника назначение себе выбрал сам — Дальний Восток. Самая северная его оконечность. Глушь, тундра, девять месяцев зима. Из развлечений: кроссворды, шахматы, общие застолья в офицерской столовой по праздникам. Но меня это устраивало, за развлечениями я не гонялся. Была работа, интересная работа, больше мне ничего не надо было. Потом — ЧП. Погиб командир третьего звена, Коля Астафин. Его жена работала буфетчицей в нашей столовой. Осталась вдовой. Мы ее часто навещали, старались помочь пережить горе. Меня она отличала, потому что я дружил с Колей и после его гибели стал командиром третьего звена. Дома у нее всегда чистота, порядок. Уютно. К домашнему уюту меня потягивало. Через год ребята шутили: женись, мол, Антон, будет тебе сразу жена и мать: она на восемь лет старше меня. Ну и женился… Женщина она честная, искренняя, но вот любви… — Антон умолк, и Настя почувствовала, что ему тяжело все это вспоминать. Она прижалась щекой к его плечу, потянулась рукой и осторожно прикрыла ладонью его губы.
— Не надо, Антон. Зачем? Мне все это не надо.
— Правда?
— Конечно, Антон.
Он помолчал, потом грустно вздохнул и сказал:
— Она меня выходила после, аварии. Я был уже почти там, а она меня выходила. Знаешь, была как мать мне…
И Настя поняла многое, о чем он не договорил сейчас, поняла все, и пожалела его, и удивилась тому, что так сложно может быть в жизни.
— Я тебя люблю, Антон.
Он обнял ее и крепко прижал к себе, словно боялся, что и она, и любовь ее могут как-нибудь исчезнуть.
— Настя, ты меня еще не знаешь, я для тебя сделаю все, но…
— Молчи, Антон. Старушки в нашей деревне, между прочим, умеют сердиться.
— Молчу.
— Молчи.
— А если нам искупаться?
— Давай!
И они, облитые белым светом луны, медленно и счастливо вошли в воду…
Вечером следующего дня они уезжали с Зеленого острова. Они были тихи и грустны. Они были счастливы и печальны, потому что впереди был город и разлука, а им хотелось быть вместе, всегда, везде, бесконечно.
Настя шла босиком по самой кромке воды. Босоножки она несла в одной руке, а другой держала за руку Антона. Так они и шли: плечо к плечу.
На дебаркадере было полно народа. Женщина, девочка и пудель сидели на высоком кормовом люке. Женщина виновато говорила:
— Дусик, но здесь же не продают мороженое. Я тебя предупреждала.
— Хочу мороженое, — хныкала Дусик и зло дергала пуделя за мягкое ухо.
Потом на дебаркадер поднялась изрядно подвыпившая компания с баяном. Мужик-баянист потребовал пива. Ему дали. Он выпил бутылку прямо из горлышка, выбросил ее за борт, засмеялся и заиграл плясовую. Какая-то молоденькая, хищноватого вида бабенка испуганно вскрикнула и бросилась в пляс. Босоножки хлюпали на ее ногах, мешали, и она сбросила их прямо в воду и босыми ногами застучала в железную, теплую от вечернего солнца, палубу дебаркадера. Грузный рыбак сидел на огромном рюкзаке, курил, смотрел на пляшущую. Потом повернулся к Антону и Насте, без выражения сказал:
— В прошлом году у нее муж здесь пьяный утоп. А она пляшет. Люди…
А бабенка, словно услышав его слова, вдруг остановилась, закачалась, прижала ладони к лицу и, пошатываясь, пошла на корму.
Баянист заиграл «Сормовскую». Компания подхватила, и запели, повели, и никто не вспомнил о бабенке, что одиноко ушла от них.
Настя смотрела на все это, печалилась и радовалась одновременно. А когда подошел теплоход, обдав берег накатной волной, оглянулась на Зеленый остров и не поверила, что совсем недавно, несколько минут назад, была там…
8Настя сразу узнала ее, хотя до этого никогда не видела и представления не имела, какая она с виду. Она узнала ее проснувшимся женским чутьем, узнала сердцем и болью, которую готовилась принять. С жадным любопытством смотрела она на эту высокую худую женщину, успевшую пожить и поизноситься. У нее не было ни неприязни, ни ревности к ней, а просто любопытство: он принадлежал этой женщине. Она видела, с какой упорной, сосредоточенной ненавистью смотрела на нее женщина, но неловкости от этого взгляда не ощущала.
Когда выступал Петр Ильич и уже становилось ясным, чем все это закончится, выражение глаз Зинаиды Степановны переменилось: теперь она жадно искала перемен в лице Насти, она даже подалась вперед, но ничего не увидела. Настя была спокойна, более того — казалась равнодушной.