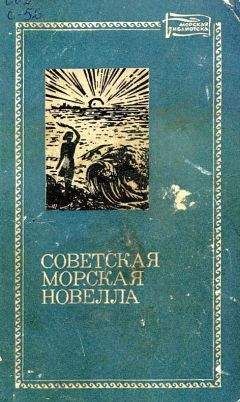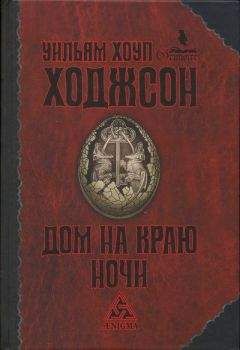И посреди этого ада, окопавшись под контрфорсами кирхи тридцать советских моряков выставили свои автоматы и пулеметы на все четыре стороны света — на юг, на восток, на север и на запад. Никто из них в этот страшный последний час не думал о жизни. Вопрос о жизни был решен. Они знали, что умрут. Но, умирая, они хотели уничтожить как можно больше врагов. В этом состояла боевая задача. И они выполнили ее до конца. Они стреляли точно и аккуратно. Ни один выстрел не пропал даром. Ни одна граната не была брошена зря. Сотни фашистских трупов лежали на подступах к кирхе.
Но силы были слишком неравны.
Осыпаемые осколками кирпича и штукатурки, выбитыми разрывными пулями из стен кирхи, с лицами, черными от копоти, залитыми потом и кровью, затыкая раны ватой, вырванной из подкладки бушлатов, тридцать советских моряков падали один за другим, продолжая стрелять до последнего вздоха.
Над ними развевался громадный флаг, сшитый большими матросскими иголками и суровыми матросскими нитками из кусков самой разнообразной красной материи, из всего, что нашлось подходящего в матросских сундучках. Он был сшит из заветных шелковых платочков, из красных косынок, шерстяных малиновых шарфов, розовых кисетов, из пунцовых одеял, маек, даже трусов. Алый коленкоровый переплет первого тома «Истории гражданской войны» был также вшит в эту огненную мозаику.
На головокружительной высоте, среди движущихся туч, он развевался, струился, горел, как будто незримый великан-знаменосец стремительно нес его сквозь дым сражения вперед, к победе.
Лодку преследовали. Она потопила четыре транспорта в Балтийском море, и теперь за ней гонялись фашистские сторожевики и миноносец.
Миноносец привязался в момент последней атаки, когда лодка встретила большой караван.
Это произошло рано утром. Лодка только что кончила зарядку, и каждый досыта накурился и надышался свежим воздухом белой ночи.
Караван обнаружили издалека. Его сопровождали сторожевики, миноносцы и два звена самолетов. Транспорты сидели в воде «по уши» — видимо, они везли на фронт технику.
Люди в лодке возбужденно ждали атаки. У четвертого аппарата, поджав широкие губы, стоял высокий, черный, сильного сложения матрос-торпедист Алексей Лебедев. На аппарате — звездочка, в память победы, одержанной в немецкой гавани. Там лодка начала счет этого похода — в надводном положении она выпустила торпеду, удачно скрылась, потопила еще два корабля, долго уходила от погони и, наконец, встретила этот караван. В аппарате лежала огромная торпеда, весом много десятков пудов и длиною несколько метров, матросы прозвали ее «Марьей Ивановной».
— Если уж эта дама к кому приложится, — шутили матросы, — не останется и мокрого места.
Торпеда долго лежала на стеллаже рядом с койкой Лебедева, и он тосковал, что ей нет применения. Ее держали про запас.
— Что горюешь, Лебедев? — басом спрашивал его Андрей Лимарь, тоже торпедист. — С Маруськой жалко расставаться?.
— Боюсь, попадется ей фашист не по чину.
— Не беспокойся. Командир позаботится, подберет добычу.
А сегодня, когда торпеду грузили в аппарат, Лебедев суриком на ее корпусе начертал: «8000». Это было его напутствием — восемь тысяч тонн, не меньше.
Другие на торпедах писали: «За Родину!», «За Украину!» Лебедев, кроме цифр, не писал ничего. Но утверждали, что каждый раз, когда торпеда выскакивала из аппарата, его губы беззвучно и с болью произносили что-то короткое.
В последнее время он всегда был мрачен. На лодку он пришел веселым, слыл даже певуном, но с зимы смолк. Зимой в Ленинграде во время блокады умерла с голоду его двухлетняя дочь.
Лодка готовилась к атаке. Командир выбирал цель. В центре каравана полз длинный и пузатый лайнер — тысяч на двенадцать тонн. Изредка поднимая перископ, лодка направилась к нему.
Командир вдруг сказал:
— Прямо на нас миноносец.
Одновременно об этом доложил акустик.
— Стань рядом, военком, — тихо произнес командир.
Военком Лосев подошел, и командир ощутил его дыхание.
Акустик твердил:
— Прямо за кормой шум винтов миноносца. Прямо за кормой шум винтов миноносца.
Нет, отвернуть от такой цели нельзя. Командир подошел близко, чтобы бить наверняка, и в нужное мгновение нажал кнопку автомата.
Лимарь в отсеке сказал:
— Пошла Маруська…
Лебедев мысленно отсчитывал секунды.
Вслед побежала вторая торпеда.
Кто-то отбивал ногой такт. На сороковом такте — взрыв. Четвертый — транспорт! Лодка уже провалилась вглубь. И тотчас — удар за ударом — посыпались глубинные бомбы. Лодку настиг миноносец.
Она упала на дно моря, затаилась, тихо прошла в сторону, легла на грунт, снова проползла и снова замерла. За пей следовали разрывы. Так началось преследование.
Лодку преследовали уже третьи сутки. Иногда звуки винтов миноносца замирали. Лодка ждала ночи, чтобы всплыть для зарядки. Ей удавалось глотнуть струю воздуха, и снопа появлялись преследователи. Белая ночь — проклятие. Лодка опять зарывалась вглубь. Становилось душно. Люди дышали тяжко и мучительно. Кольцом рвались бомбы. Гас свет. Лодка падала вниз и ускользала от гибели.
Военком Лосев шел из отсека в отсек. Он был человеком молодым, но умел говорить спокойно и ласково. Люди встречали его, как ветерок с воли.
Труднее всех приходилось новичку Перову. Он впервые переживал сложное длительное плавание. Уткнувшись лицом в подушку, он лежал на койке. Рядом сидел Алексей Лебедев.
Входя, Лосев услышал его голос:
— Допустим, что мы погибли. Но если уж умереть, так один раз. А, как тебе известно, трусу потому и тяжело, что он умирает несколько раз…
Лосев шагнул в отсек.
— Ну как, товарищ Лебедев, страшновато? — спросил он торпедиста, не обращая внимания на вскочившего Перова.
Лебедев понял военкома:
— В первый раз было так страшно, что волосы вставали шваброй. А теперь свыкся. Смерти не боюсь.
— Мы и не собираемся умирать, мы еще поживем, — улыбнулся Лосев и, нахмурив свои темные брови, продолжал:
— Скверная штука — страх, особенно для нас, подводников. Нам народ нужен веселый, твердый. Вот как Андрей, — он кивнул вошедшему в отсек Лимарю.
За военкомом всегда тянулись матросы. Он любил стихи и часто читал вслух. Его попросили:
— Прочитайте Маяковского, товарищ старший политрук.
— Нет, сегодня я прочитаю Лермонтова.
Лосев сел и стал читать:
Гарун бежал быстрее лани,
Быстрей, чем заяц от орла;
Бежал он в страхе с поля брани,
Где кровь черкесская текла;
Отец и два родные брата
За честь и вольность там легли,
И под пятой у супостата
Лежат их головы в пыли.
Их кровь течет и просит мщенья,
Гарун забыл свой долг и стыд;
Он растерял в пылу сраженья
Винтовку, шашку — и бежит!..
Лосев читал по памяти, тихим и страстным голосом; его карие глаза стали густыми и лучистыми. Где-нибудь в светлом зале его голос, вероятно, зазвенел бы, как струна, но в лодке он звучал глухо, как шепот, и матросы слушали его, сдерживая голодное дыхание.
«Ты раб и трус, — и мне не сын!» — произнес военком, и новичок Перов вдруг сказал:
— Труса не только мать — земля не примет.
— Да, — согласился Лосев, прервав чтение. Он посмотрел на Лебедева, как всегда хмурого.
— А вы, товарищ Лебедев, ошиблись со своей Марусей!
— Я уже исправил ошибку, — мрачно ответил матрос и показал на аппарат, на котором была начертана цифра: «12 000».
— Хорошо вы действовали, как коммунист. Двенадцать тысяч тонн потопила ваша подшефная — не шутка.
— У меня к вам просьба, товарищ военком, — тихо сказал Лебедев. — Завтра партийное собрание. Я уже две рекомендации имею…
— Дам вам третью, — обнял его военком. — Только голову держите выше…
Лодка лежала на грунте. Через сальники и сдавшие заклепки сочилась вода. Ее нельзя было откачивать — лодку стерегли. Она отлеживалась, обманывая преследователей.
В тесном, слабо освещенном отсеке плотно друг к другу сидели коммунисты. Говорили вполголоса и скупо, экономя силы.
На повестке дня — заявление Лебедева.
Мичман Виноградов — секретарь партийной организации — зачитал рекомендации и боевую характеристику.
«Несу за него полную ответственность перед партией», — писал военком, и, слушая, Лебедев почувствовал, как стучит кровь в висках.
— Послушаем товарища Лебедева? — предложил мичман.
— Что слушать — знаем.
— В кандидаты тут принимали.
— Вместе ели блокадный хлеб.
— Нет, товарищи, — остановил мичман, — здесь есть новички, и я думаю, что Лебедеву надо рассказать о себе.
Лебедев сказал коротко. Главным образом о своей жизни до военной службы. Он жил в Москве, работал в депо имени Ильича помощником машиниста и оттуда призван во флот.