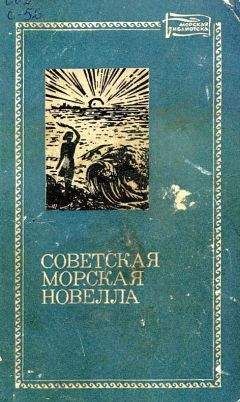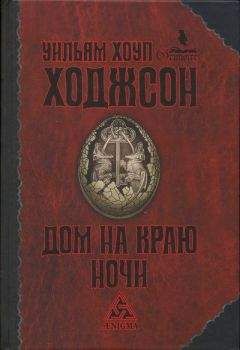Тело коченело, но голова работала с удивительной ясностью. Ильин не чувствовал страха, а только томительную досаду от сознания своей беспомощности и неспособности к действию. Мысли вертелись вокруг привычного — корабля, товарищей, семьи. В его положении следовало подумать о спасении или приготовиться к смерти. Ильин еще раз взвесил свои шансы и нашел, что они не стоят ломаного гроша. Вряд ли хватит сил продержаться на воде до утра. Да и зачем? Появилась мысль — разжать пальцы и погрузиться, чтоб покончить все разом. Взглянуть последний раз в бездонную черноту неба, отыскать знакомые созвездия…
Опять несколько звезд покатилось в разных направлениях, пересекаясь и догоняя друг друга. До войны он, конечно, никогда не догадался бы назвать их трассирующими. А теперь вдруг забыл, как они назывались тогда.
Ветер донес до Ильина звук, заставивший его насторожиться. Ильин различил треск мотора и шелест винта идущего катера. Ошибиться было невозможно. Судя по звуку, катер приближался.
Первым душевным движением была острая опьяняющая радость. Спасен! Ильин чуть не выпустил из рук рога своей толстухи и, чтобы удержаться, налег на них так, что мина покачнулась. На долю секунды его пронизал жуткий холодок — было бы глупо взорваться именно теперь. Черт их знает, эти немецкие мины.
Затем сразу осекся. Чему он радуется, чудак? Катер может пройти мимо. Кричать? Неизвестно, сумеет ли он крикнуть, а главное… Главное, что это мог быть немецкий катер. Как это ему не пришло в голову сразу? И даже, вернее всего, катер немецкий.
Теперь было не до рассуждений. Нужны были решения и поступки. Ильин освободил одну руку и нащупал в заднем кармане брюк бельгийский браунинг, подарок одного таллинского дружка. Вопрос ясен — если это гитлеровцы, то он пустит себе пулю в рот.
Он опять прислушался. Тот же стрекот, но уже ближе. Если б не волна, можно было бы уже разобрать силуэт.
Мысли неслись быстро, опрокидывая друг друга. Через секунду первый вариант был отвергнут. В магазине пистолета семь патронов — если катер подойдет, чтоб забрать его, можно выстрелить шесть раз. Седьмой патрон остается в резерве. Через секунду этот вариант показался сомнительным. Не годится, отставить! Разве можно точно стрелять из такого положения? К тому же пистолет может отказать. Тогда захватят живым. Так вот он — грозный выбор, решительный момент, к которому он готовился и все-таки не верил, что он когда-нибудь наступит.
Ильин еще раз взглянул на небо, исчерченное роями падающих звезд. Все ясно. Тревоживших его раньше сомнений не существует… Да, он любит этот прекрасный мир, этот небосвод, населенный мириадами звезд, еще больше — землю, море и людей, еще больше — часть этой земли, которая называется Родиной и сейчас так же далека, как самое дальнее из светил. Видеть, ощущать этот мир — огромная радость, но она доступна лишь человеку свободному и незапятнанному позором. Вне свободы и чести этот мир не имеет никакой цены. Получить жизнь в подарок от этих скотов? Лучше умереть. Это совсем не страшно. Страшнее остаться жить.
Катер был уже совсем близко. Он приглушил мотор и замедлил ход. Ильину показалось, что его окликают в мегафон, но слов слышно не было.
Что же делать? Вдруг его озарила мысль — простая и ослепительная. Надо кричать, стараться, чтоб его услышали, заметили. Если катер свой, — он спасен. Если же нет, — пусть эти скоты приблизятся — удара рукоятки пистолета по запальному стакану мины будет достаточно, чтоб взлететь в воздух вместе с фашистским катером и всей его командой. Это настоящая смерть, и для того, чтобы так умереть, стоило жить.
Он еще раз взглянул на небо. Трассирующие звезды превратились в сверкающий поток — от этого зрелища было трудно оторваться. Ильин набрал в легкие воздух и закричал. Это не был жалобный вопль утопающего. В его голосе звучали радостная сила и вызов.
Лев Кассиль
Абсолютный слух
Сам Перчихин полагал, что, будь у него мало-мальски подходящий голос, он, несомненно, стал бы знаменитейшим певцом. Но голоса у Семена Перчихина не было никакого, даже самого неподходящего. Зато он обладал совершенно феноменальным по остроте слухом. Я еще не встречал человека со столь чутким и точным ухом. Это и определило его военную специальность.
Родом он был из Кронштадта. Вырос в семье коренных балтийцев. Но плавать ему довелось на северных морях за Полярным кругом. Поразительная острота слуха, умение распознавать звуки, которые никто, кроме него, не улавливал, пригодились Семену Перчихину на флоте. Музыкальная карьера, о которой мечтал он, не получила здесь развития, но зато старшина второй статьи Семен Перчихин стал превосходным гидроакустиком на гвардейской крейсерской подводной лодке, которой командует Герой Советского Союза Звездин.
Когда подводный корабль уходил в дальнее автономное плавание, тайком, с немыслимой смелостью пробираясь в район, где стояли вражеские суда, связь с внешним миром обрывалась. Нельзя даже было принимать радио, так как чувствительные пеленгаторы, аппараты-искатели на неприятельских кораблях могли бы поймать слабое излучение в эфире, неустранимое даже тогда, когда радиоаппаратура лодки работает на прием. Лодка выдала бы этим свое место, и тогда — поминай как звали…
В таких случаях приходилось подолгу идти в подводном положении. Опасно было даже на мгновенье поднять перископ. Единственной связью со всем, что оставалось за железными бортами лодки, были в эти минуты уши Перчихина с тонкими, причудливо изогнутыми раковинами, сквозь бледную кожу которых просвечивали нежные прожилки, что делало похожим ухо на какой-то экзотический цветок. Перчихин, втиснутый в крохотную каютку, безвылазно сидел у своих гидроакустических аппаратов и, ущемив голову наушниками, неотрывно слушал море.
Сколько раз предлагал он и мне послушать… Я тоже надевал наушники, слышал бормочущий и томительный, продернутый тонким шумом шорох моря — и он мне ничего не говорил. Но для Перчихина раскрывалась целая книга звуков, неуловимых, ему одному понятных шорохов.
— Как же вы не разбираетесь, вот послушайте, — пояснял он, возвращая мне наушники снова, — пух-пух, пух-пух, редкий такой звук, тяжелый, с придыханием… Это транспорт ползет, солидная посудина. Километра четыре отсюда. А вот хорошо прослушивается стучок такой переливчатый, металлом отзванивает, слышите? Это уже миноносец пошел. А где-то еще ботишка топает, слышите — движок у него кудахчет.
Но как я ни напрягал слух, в ушах стоял только ровный, однообразный, легонько звенящий гул. Однако, подняв перископ, мы видели на поверхности моря все, что слушал в глубинах его Семен Перчихин: и большой грузовой корабль в отдалении, и миноносец, конвоировавший его, и маленький рыбачий бот, выходящий из гавани.
Морс несло в себе тысячи шумов, и каждый из них был ясен и знаком Перчихину. Он легко расшифровывал эти звуковые иероглифы, и чуткое ухо его никогда не путало внешних звуков с целым оркестром шумов, шорохов, перезвонов, стуков, которые жили в самой подводной лодке, производились ею и тоже прослушивались через акустические аппараты. Перчихин с волшебной точностью распознавал малейшее движение на своем подводном корабле. Он безошибочно определял, какой механизм действует, каким ходом идет лодка. Тиканье хронометра, посапыванье помпы — все слышал Перчихин. Он знал по звуку походки командира, комиссара, боцмана. Доходило до того, что Перчихин, не сходя с места, лишь приоткрыв двери своей каютки, кричал коку:
— Эй, в камбузе?.. Миронов, у тебя там кипит что-то, смотри, чтобы не убежало.
О его необыкновенном слухе уже складывались целые легенды. Моряки охотно преувеличивали удивительные способности своего акустика, а сам Семен Перчихин не слишком стремился разоблачать эти россказни. Он не прочь был и сам блеснуть своим действительно невероятным по чуткости слухом.
— Ну, Перчихин, что слыхать? — спрашивали его соскучившиеся в долгом и трудном походе подводники.
Перчихин, сидя согнувшись над своими аппаратами, приподняв один наушник и посматривая из-под него на заглянувших к нему товарищей, не спеша докладывал.
— Что слышно? Да всякое слышно. Вот катер пошел километров пять отсюда. На форту кто-то песни поет под гитару. Сейчас скажу, что поет. Ага! «Любил я очи голубые…» У гитары новый строй, только на одной струне слабина. Эх, тупоухие! Не в тон настроили… А вот сейчас камбала мимо нас проплыла. Определенно камбала. Треска не так ходит, у трещочки звук другой.
— Да будет тебе травить, — смеялись подводники. — Как же это ты рыбу можешь слышать?..
— Знаешь, какое ухо у меня пронзительное, абсолютный слух, — не сдавался Перчихин. — Я самую тихую тихость чую. Я слово слышу, когда оно еще к тебе на язык только ладится — как присесть… Ты его еще не сказал, может быть, оно у тебя еще только в мозгах шевелится, а я уже его слышу. Вот, например, Костя Миронов смотрит на меня, и вот он сейчас скажет: «Врешь ты все, травила несчастный!»