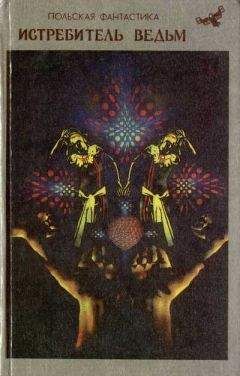— Дарья Семеновна! — потрогал он женщину за плечо. — Что случилось? Почему вы плачете?
Она поднялась ему навстречу, взяла тряпку со стола и утерла глаза.
— Кто вас обидел?
Успокоившись, она сказала:
— Не знаю на кого и подумать. Сначала курочки-молодки исчезли, а сегодня — коза, Зинка. Она ведь у меня по три литра давала, которая корова по стольку не дает. Как я за ней ухаживала, берегла!
Она начала рассказывать про Зинку: как принесла ее маленькой, как растила, да какая она была резвая, запрыгивала на табуретки, на кровать, бегала за ней в контору, в магазин. А теперь вот Зинки не стало…
Зырянов утешил, как мог, уборщицу, пообещал ей от дирекции леспромхоза выдать ссуду на приобретение козы, потом спросил:
— Может, вас перевести в другое общежитие, где поспокойнее? Трудно вам с этим народом?
— Так-то они ничего, — сказала Цветкова, — слушаются меня и не озоруют. Этот, угрюмый-то, баловаться им не дает. Они его боятся. И в помещении не сорят, чисто живут. Дежурных своих назначают. Кто знает, что это за народ. Может, и не они пакостят, а на них думают. Бывает, заведется паршивая овца в стаде, тень на все стадо падает.
— Ну, смотрите, Дарья Семеновна, вам виднее. Если трудно с ними — переведем в женское общежитие.
Цветкова замахала руками.
— Ой, нет! С нашим братом, женщинами, бывает иной раз еще труднее. Есть такие своебышные, неряхи. Да начнут еще к себе мужиков привечать… Нет, нет, лучше уж останусь здесь. Привыкну, смирюсь.
— А по вечерам жильцы чем занимаются? — помолчав, спросил Зырянов.
— Известно, чем: собьются в кучу, сидят, зубы скалят, ржут. А тут на днях было в карты начали играть: сперва в дурака, а потом, смотрю, деньги на кону появились. Я, конечно, предупредила. Они сгребли карты в кучу, разошлись. А через некоторое время опять за печкой сбились, снова за то же. Я рассердилась и отобрала карты. Они ходили за мной, уговаривали, а я так и не отдала им колоду. Лежит у меня в тумбочке. Хотела спросить вас, что с ней делать?
— Ну, пусть пока лежит… Дарья Семеновна!
В голосе замполита Цветкова уловила сухую, жесткую нотку. Поняла: с чем-то серьезным пришел к ней Зырянов. Даже как-то тревожно стало от его пристального взгляда.
— Мы вас недавно в кандидаты партии приняли. Знаете, к чему обязывает вас это? Говорил я с парторгом Березиным. Вы не несете никаких партийных поручений. Как же это так?
— Мне никто ничего не сказал.
— Вам не сказали, и вы молчите.
— А что мне делать?
— Работы у нас, Дарья Семеновна, навалом. Попытайтесь-ка читать рабочим газеты, журналы, беседовать с ними.
— Захотят ли они меня слушать?
— Кто не захочет — пусть не слушает. Найдутся, которые и послушают. А то, что же это, Дарья Семеновна, получается? У нас тут тоже фронт. А у вас, Дарья Семеновна, передовая позиция.
— Что я сделаю тут — уборщица.
— Не прибедняйтесь. Вы должны хорошо узнать своих людей, к каждому сердцу подобрать ключик. Особенно — к сердцу Харитона Богданова. Сам он легко подбирает ключи к людям, а мы к нему никак не подберем; он грубый, самолюбивый, к нему не знаешь, с какой стороны подступиться. А ведь он тоже человек. Зачем-то живет, о чем-то мыслит, чем-то интересуется.
— Он и не разговаривает ни с кем.
— Воспитывать надо человека. Никто с ним не работал, не обращал на него внимания, вот он и оказался нелюдимкой.
Внезапно открылась дверь, через порог каморки с ношей за плечом шагнул Богданов. Он принес красно-бурую шкуру козы и кинул среди пола. Из нее вывалились куски мяса, козья голова и ноги.
Ни слова не сказав, ни на кого не глянув, он повернулся и пошел к выходу.
— Богданов, что это? — крикнул ему Зырянов.
— Гляди, чего! — буркнул тот и хлопнул дверью.
Цветкова упала на кровать и снова зарыдала.
С полотенцем в руке, без рубахи Богданов прошел к многососковому умывальнику, стоявшему в стороне от дома, под сосной. Все его тело расписано всевозможными рисунками и символами: змеями, орлами, кошкой, бегущей за мышью, а на груди, точно огромный медальон, нарисовано сердце, а в нем голова красавицы с распущенными волосами.
— Мне с вами надо поговорить, Богданов, — сказал Зырянов, когда тот возвращался от умывальника.
— О чем нам разговаривать? — буркнул Богданов. И прошел мимо.
Когда все ушли на работу и общежитие опустело, вернулся Синько, опухший, со страшными кровоподтеками под глазами.
Потом, когда его спрашивали, что с ним, он говорил, что ходил на Водораздельный хребет за малиной, упал со скалы и расшибся.
Было уже совсем темно, когда Зырянов вышел из дома парторга Фетиса Федоровича Березина.
В общежитиях горели яркие электрические огни. Лесная прохлада, днем таившаяся вокруг поселка, теперь овладела его пустынными улицами.
Поеживаясь от холодка и сырости, Борис Лаврович шел в ночную темноту, в сторону от больших домов, где на отшибе одиноко стоял старый приземистый барак.
На завалинке у неосвещенного барака, под высоким таежным небом, забрызганным серебристыми бусинками, сидели щека к щеке парень с девушкой. И когда под ногой у Зырянова хрустнул сучок, влюбленные отстранились друг от друга и стали всматриваться в темноту.
— Это жилец из квартиры приезжих, — сказала девушка и, успокоенная, снова прижалась к парню.
Слова девушки резанули по сердцу. И в самом деле, он здесь в леспромхозе все еще живет на положении «жильца из квартиры приезжих»: нет ни семьи, ни родных, ни близких, кочует с участка на участок; да и в чарусской квартире не пахнет жилым духом.
Нащупав ручку двери в темном коридоре, замполит вошел в комнату, включил свет. Каким унылым показалось ему это временное жилье! Голые стены, три кровати, стол, накрытый простыней. В углу из норки выглянул мышонок, огляделся, подбежал к ножке стола, поднял вверх мордочку, словно обрадовавшись появлению еще одного живого существа. Зырянов шаркнул ногой, зверушка опрометью кинулась в свое убежище.
Борис Лаврович долго не мог уснуть. Лежал и прислушивался, что делается вокруг. Под полом пищали мыши, за стенкой в соседней комнате заплакал ребенок, его успокоили, начали раскачивать на стальной певучей пружине зыбку; где-то в конце барака раздавался богатырский храп, а за окном на завалинке продолжала ворковать парочка влюбленных.
«Жизнь идет по своим вечным законам», — подумал Зырянов. И вздохнул.
Откуда-то из темноты на него глянули большие, удивительно теплые, ласковые глаза. Глянули и исчезли. Чьи они, где он их видел? И вдруг перед ним встало недавнее росистое утро, освещенное солнцем, поднимающимся из-за Водораздельного хребта. Две девушки. Две подружки. Где они? Может быть, их уже нет в леспромхозе. Как это он не поинтересовался дальнейшей судьбой девушек?
На другой день вечером он пошел в женское общежитие. Из раскрытых окон на улицу лилась песня. Войдя в большой длинный зал, заставленный кроватями, Зырянов на минутку задержался у двери. Посредине зала возле стола сидели и стояли девушки и задорно пели под гитару. Гитарист в шапке, в вышитой по вороту и подолу косоворотке, в широких синих штанах, поставив одну ногу на скамейку, перебирал струны и задавал тон:
А тебя об одном попрошу:
Понапрасну меня не испытывай.
Я на свадьбу тебя приглашу,
А на большее ты не рассчитывай.
— Здравствуйте, девушки! — сказал замполит, подходя к столу.
Девушки прыснули от смеха и устремили взоры на гитариста. Тот смутился и начал стирать рукавом наведенные углем залихватские усы, сорвал с головы шапку, из-под которой на плечи упали тугие, толстые косы.
— А что ты, Лизка, испугалась? — шепнула на ухо подруге Паня. — Наш старый знакомый. Соскучился. Проведать пришел.
— Вы, девушки, не стесняйтесь, продолжайте! — сказал Зырянов.
Но девушки разбежались по своим углам, по кроватям. И только две подруги стояли перед ним, будто раздумывая: то ли уходить, то ли подождать, что он скажет?
Борис Лаврович сел на скамейку возле стола.
— Садитесь, посидите, Лиза, Паня!
Торокина примостилась за столом против замполита, положила перед собой большие огрубевшие руки и в упор уставилась на гостя серыми доверчивыми глазами: дескать, говори, я слушаю. Медникова что-то шепнула ей и ушла за печь, стоявшую среди общежития.
— Куда она? — спросил Зырянов.
— Она сейчас придет.
— Вы давно с ней дружите?
— Да уж давно, как встретились в Казахстане, и никуда одна от другой. Лизка-то больно хорошая, добрая. Который раз и вспылит, рассердится на меня: «Ты, мол, телка, корова, кто тебе веревку на рога закинет, ты за тем покорно идешь. Глупая ты, Панька! Не стану я с тобой дружить…» А я ее упрошу, уговорю, она пожалеет меня. Куда я без Лизки-то? Я с ней живу, как за каменной стеной. Меня ведь каждый обмануть может. А Лизка меня в обиду не даст. Я к ней привязалась сильнее, чем к родной матери. Вы не смотрите, что она молодая, она, ой, какая умная! Кто на ней женится — навек счастливым сделается. Только она на женихов-то не больно глядит. Задавучая!