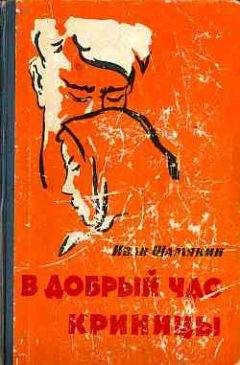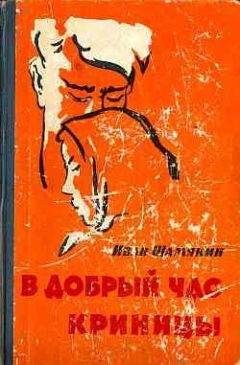«Зачем же теперь обижать такого человека?» — подумал Максим и решил при случае выступить в его защиту.
— А мы сейчас разберемся, Сергей Иванович, у кого тут голова кружится, — сказал Ладынин и, перечислив ещё раз стоящие перед парторганизацией задачи, сел.
Выступали все, кроме Мурашки. Тишина, господствовавшая во время выступления Ладынина, рушилась, как лед на реке.
Говорили горячо, спорили, задавали вопросы, бросали замечания, подсказывали, о чем ещё сказать. Видимо, тема эта всех задела за живое. Особенно много говорили о положении дел в «Партизане», и все сошлись на мысли, что Шаройку надо заменить, и чем скорее, тем лучше будет для колхоза.
Резко критиковали Байкова. Он молчал, понуря голову.
— На заседаниях сельисполкома, на сессиях мы приняли немало хороших решений, а как они выполняются — это председателя сельсовета не волнует. Он очень много ходит по колхозам, даже чересчур много, а результатов от этого что-то незаметно, — говорил Вячера.
Байков нервно ерошил рукой волосы и молчал, хотя по всему было видно, что критику он воспринимает болезненно и со многим не согласен.
Максим тоже выступил. Заступился за Байкова.
— Мне, человеку новому, со стороны кажется, что у некоторых товарищей есть тенденция ошибки всей организации сваливать на одного человека.
Байков поднял голову и, окрыленный поддержкой, заговорил:
— У нас это могут.
Неправда, Сергей Иванович! — прервал его Ладынин. — Мы умеем признавать свои ошибки. Но на наших собраниях — давайте договоримся, товарищи, ещё раз — мы будем критиковать не вообще, а конкретно, называя точный адрес. От этого будет больше пользы. И давайте оставим все обиды. Мы должны относиться к критике по-большевистски.
…Затем разбирали дело Мурашки. Прошло четыре месяца, как он вернулся из армии. Но за все это время он ни разу не подумал чем-нибудь заняться, не заработал в колхозе ни одного трудодня. Ходил, гулял, «выбирал невесту». «Женюсь — тогда сразу за все отработаю», — говорил он, если кто-нибудь в разговоре с ним касался этой темы.
Ладынин докладывал об этом с возмущением. Максим заметил, что доктор сразу переменился: густые брови его сошлись в одну линию, морщины на лбу стали глубже.
— В такой ответственный момент, когда наша маленькая, но, скажу я, дружная, трудолюбивая организация напрягает все свои силы, один из членов её спокойно прохлаждается. Стыд и позор! Мы говорим об укреплении дисциплины в колхозах, а товарищ Мурашка разваливает её. Все лодыри на вас пальцами показывают. Вон, мол, коммунист и тот не очень-то набрасывается на колхозную работу, а что же нам… Ко мне женщины приходят жаловаться на вас. Не было вас, они работали, выбивались из сил, чтобы мы в армии ни в чем не нуждались, вернулись вы, и опять они вынуждены вас кормить. Стыд!
— Я чужого хлеба не ем!
— Нет, выходит, что едите…
Максим подумал: «Однако старик крут… Попадись ему в руки — в дугу согнет».
Мурашка попробовал оправдаться, начал говорить шутливо, с прибаутками:
— …Неужто за пять лет я не заслужил каких-нибудь трех месяцев отдыха?
«Неужели и я не имею права отдохнуть? — подумал Максим, оправдывая в мыслях Мурашку. — Неужели на другой же день нужно запрягаться в работу?»
На вопрос Мурашки ответил Примак.
— Отдыха! — зло выкрикнул он и поднялся, выхватив из кармана пустой рукав. — Я вот каким пришел из госпиталя и через неделю уже работал в МТС. А ты — здоровый как бык, из морды кровь вот-вот брызнет — решил полгода отдыха себе дать… Стыдился б людям в глаза глядеть! На какие средства ты пьешь? Скажи собранию! Накрал, когда был старшиной? А-а? Исключить его, чтоб не позорил святое звание…
Мурашка, который сперва говорил спокойно, с усмешкой, видимо рассчитывая, что дело ограничится товарищеской беседой, вроде тех, какие уже не раз вел с ним Ладынин, вдруг побледнел и рванулся к Примаку.
— Ты… мне… Ты докажи свои слова… — Голос его дрожал.
Поднялся Вячера, отогнал ладонью дым от лица.
— Михаил Алексеевич немного погорячился, но я его понимаю… Я сам не мог без возмущения смотреть на такое поведение члена партии.
У Лесковца пропало желание выступить в защиту своего односельчанина. Мурашку «разносили» безжалостно: как говорится, «не оставили живого места». Особенно резко говорил Лазовенка — он не кричал, как Примак, говорил внешне спокойно и сдержанно, но краска на лице и глаза выдавали его возмущение.
Мурашка молчал, боясь взглянуть товарищам в глаза. Он то становился белее стены, то шея его багровела и на висках надувались вены.
Все выступавшие после Примака предлагали вынести ему выговор. Мурашка попросил слова.
— Товарищи, простите. Завтра же иду на работу… И буду работать так… Ну, одним словом, так, как полагается коммунисту. На любой участок поставьте — нигде не подведу.
Из сельсовета шли вчетвером: Максим, Ладынин, Лазовенка и Примак. Другие разошлись немного раньше, а Байков остался почитать газеты.
Теперь все разговаривали с Максимом, расспрашивали его. И это льстило его самолюбию.
— Вот так и воюем, Максим Антонович. Время горячее, интересное, работы — непочатый край, а людей мало. Каждому новому человеку рады, и потому больно, когда в наших рядах появляются такие, как Мурашка, — говорил Ладынин.
Они миновали сад, вышли на дорогу.
Доктор предложил:
— Зайдем ко мне, посидим, побеседуем.
Лазовенка пытался было отказаться, но Примак сразу согласился.
Дом врачебного участка стоял на краю деревни, возле сада. Здесь по обе стороны дороги, обсаженной старыми тополями и липами, до войны размещались все общественные постройки: сельсовет, больница, школа, клуб, сельмаг. Теперь же пока было восстановлено только два здания: школы и врачебного участка. Оба эти здания были кирпичные, и поэтому пожар не уничтожил их целиком. Дальше начиналась деревня. Прямая улица сбегала с пригорка, на самом верху которого стояла школа, к реке, подковой изгибавшейся Максим критическим взглядом окинул хаты. Быть может, вовсе и не желая этого, он начал придирчиво относиться ко всему что было связано с именем Василя.
«Что ж, хаты как хаты», хотя и сам чувствовал, что кривит душой. Хаты были новые, добротные, многие в три окна на улицу.
На квартире у доктора их встретила жена Ладынина — Ирина Аркадьевна, полная приветливая женщина. В свои пятьдесят лет она не утратила привлекательной миловидности: её белое лицо озарялось теплым светом добрых голубых глаз. Несмотря на полноту, двигалась она быстро и как-то мягко, бесшумно.
Доктор занимал две небольшие комнаты. В первой стояли стол, шкаф, диван и во всю стену, от пола до потолка, полки с книгами. Максима удивило такое количество книг, он знал, что после оккупации книги были редкостью и трудно было собрать даже небольшую библиотеку.
Максима попросили рассказать о Маньчжурии и Корее, в освобождении которых ему посчастливилось принять участие.
Он рассказывал долго и подробно о природе тех краев, обычаях, об ужасающей нищете ограбленного японскими захватчиками населения. Рассказ явно захватил слушателей, а их внимание и интерес, в свою очередь, вдохновляли Максима. Он даже начал уже слегка любоваться собой. Примак, который и сам немало повидал за войну, похвалил:
— Ты, брат, рассказываешь, как настоящий писатель…
И верно, долго бы ещё рассказывал Максим…
Но вдруг в коридоре послышался стук — кто-то быстро шел, громко стуча каблуками. И вот, двери настежь — и в комнату влетела девушка.
Максим застыл от удивления: так его поразила её красота.
Она была в белой пуховой шапочке и в синем лыжном костюме, по грудь мокром и обледенелом. В руках её блестели коньки.
Ирина Аркадьевна всплеснула руками:
— Батюшки! Провалилась!
Девушка звонко засмеялась, подарила гостей ясным приветливым взглядом и, кинув коньки за печку, исчезла в соседней комнате.
У Максима дрогнуло сердце. Он даже глубоко вздохнул, словно перед этим долго задерживал дыхание.
Ладынин взглянул на него, коротко пояснил:
— Дочка, — и начал в свою очередь что-то рассказывать о Маньчжурии, о которой он много читал.
Но Максим не слушал его. Он слушал другое — приглушенный веселый смех и шепот за дверьми. Ни разу ещё женская красота не поражала его так сильно с первого взгляда. С нетерпением ждал он, когда девушка выйдет.
Из-за дверей послышался голос Ирины Аркадьевны:
— Игнат, принеси, пожалуйста, спирт.
— Папа! Не надо! Пустяки! Я даже не промокла.
Но Ладынин быстро встал и пошел в амбулаторию, помещавшуюся через коридор. Примак подмигнул Максиму и Василю.
— Что — остолбенели, холостежь? Мне бы ваши годы! Лазовенка иронически улыбнулся: