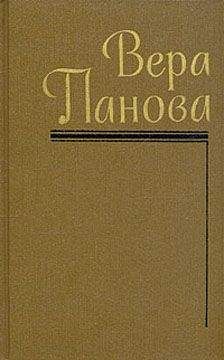— Жук! — сказал Шалагин, гладя его. — Жучок, Жучок, хорошая псина, узнал меня! — Он обратился к председателю: — Вот так давай, председатель. Домом пользуйтесь пока что, а мне лесу выпиши взамен, строиться буду.
— Сделаем, — сказал председатель. — Только на корню бери лес, заготовленного нет у меня.
— Ладно, что поделаешь, — сказал Шалагин. — Ну, Жук, пошли!
И зашагал прочь от своего дома, а счастливый Жук бежал возле его ноги.
Мошкин держал речь:
— Товарищи, в этом вопросе мы обязаны быть принципиальными и непримиримыми до конца! Тут, товарищи, всякое проявление либерализма преступление! Мы не можем терпеть личностей, потерявших облик! Каленым железом будем их выжигать из своей среды!
Речь Мошкина была направлена против Макухина, Ахрамовича и Плещеева, которые сидели рядышком на стульях у стены. Посреди комнаты за столом заседали завкомовцы.
— Наш облик вас не касается, — сказал Макухин, обидясь. — Какой есть.
— Ты скажи, ты где кровельное железо взял? — обратился к нему один из членов завкома. — Это раз. Как вас угораздило стекла побить, это два. Шутка сказать, по зимнему времени, стекла днем с огнем не найдешь — и нате, окна перебить… Ну почему обязаны люди такое терпеть через вас?
— И кто его знает, как оно вышло, действительно, — вздыхая, виновато сказал Ахрамович.
— Но про облик он не имеет права, — настаивал Макухин. — Облик сюда не относится. Не крал я железа, слева купил.
— Значит, краденое купил, — сказал кто-то.
— Да уж накладных не спрашивал, — огрызнулся Макухин. — Не брильянты покупал, крышу купил, крышу над головой, для детей, понятно?
— А получку пропиваешь — это тоже об детях заботишься? — спросила Капустина.
Ахрамович, вздыхая, сказал примирительно:
— Знаете ведь — работаем всегда, а пьем иногда.
— Наоборот скажи, — возразила Капустина. — Пьете всегда, а работаете иногда. Так вернее будет.
— Лично я, — сказал Плещеев, — ничего слева не купил, и не тянул ничего, и пью на свои заработанные, и чего вы меня сюда привели, спрашивается?
— Леонид, Леонид! — сказала Капустина. — На свои ли?
— Я вашего суда не признаю, — сказал Плещеев. — Я за вас жертвы принес, а не вы за меня.
И на эти заносчивые слова в комнату вошел Шалагин.
— Постойте, товарищ Плещеев, — равнодушно сказал Мошкин. — По порядку давайте. Закончим с Макухиным Значит, так, товарищи, запишем: просить прокуратуру разобраться, откуда у гражданина Макухина кровельное железо…
— Минутку, товарищ Мошкин, — сказал Сотников, стоявший с папиросой у приоткрытой двери. — Погодите с прокуратурой. Товарищи, не хочу я Макухина и Ахрамовича под суд отдавать! Не нужно мне сажать их на скамью подсудимых, они заводу нужны! Их уменье нам нужно — что мы, не знаем, какие это работники, когда они трезвые?.. А Плещеева мы разве не помним как замечательного слесаря? И разве исключено, что товарищ Плещеев вернется на завод?
— Конечно, сейчас! — сказал Плещеев.
— Я убежден, что он сможет вернуться, — продолжал Сотников, — если захочет. Если захочет! Так что давайте, друзья, без прокуратуры. Берите себя в руки, кончайте с этой нечистью, и будем сообща делать то, чего от нас народ ждет.
Капустина сказала задумчиво:
— Верно, пора, товарищи, кончать. Никто, только мы сами можем навести порядок и на заводе, и в поселке, и везде. Давайте браться, товарищи.
Пьяницы вышли из комнаты. Придерживаясь за спину Ахрамовича, последним шел Плещеев. Шалагин остановил его:
— Леонид.
— Кто это? — в раздражении сердито спросил Плещеев.
— Шалагин. Не узнаешь по голосу?
— Гриша! — сказал Плещеев. — Ты здесь! А я — вот видишь…
Лицо у него задрожало. Он нетерпеливо оттолкнул Ахрамовича:
— Вы идите! Идите без меня! Я с Гришей!
Макухин и Ахрамович ушли, оглядываясь. Шалагин обнял Плещеева за плечи и повел.
Сотников и Мошкин вместе вышли после заседания.
— Слабо провели, — сказал Мошкин. — Никаких, в сущности, выводов.
— Все вам выводов хочется, — сказал Сотников. — Иногда мудрее оставить вопрос открытым.
— Не понимаю вас. Вы бы попроще выражались, по-нашему, по-рабочему.
Сотников усмехнулся.
— Оставьте, Мошкин, демагогию.
Мошкин покосился на него. Очень отличались они друг от друга: большой, сильный, подтянутый директор с умным лицом, выражающим энергию, юмор и жизнелюбие, и щупленький Мошкин с впалой грудью, недоверчиво настороженный, в мешковатом кителе.
— Насквозь я тебя вижу, — сказал Мошкин, переходя вдруг на «ты». Мало тебе власти, хочешь любви широких масс? Доморощенный вождь местного значения? Я в эти игры не играю. Каждый обязан долг свой сполнять, а нет заставим. Сказано не пей — не смей пить. Сказано работать — иди работай. Твоими методами людей не воспитаешь. И нет твоим заигрываниям и утопиям от меня поддержки. И не жди. Тебе налево, мне направо.
— Верно, — сказал Сотников. — Вам туда, мне сюда. Но не забывайте работать-то нам вместе.
— Не пугай, — сказал Мошкин. — Под меня не подкопаешься.
Шалагин и Плещеев сидели в столовой за столиком.
— Сейчас принесут нам кашу и омлет, — сказал Шалагин, — и будет нам хорошо. Продолжай, рассказывай: как дальше жить думаешь?
— А что продолжать? — надрывно спросил Плещеев. — Какое у меня может быть дальше?
— Как же?.. — спросил Шалагин. — Как вообще жить, если нет «дальше»?
— И не надо бы, — сказал Плещеев. — Ради Лени живу, ради сына только!
— И хорошо получается?
— Значит, хорошо, если от матери ко мне прибежал! — огрызнулся Плещеев. Помолчав, сказал угрюмо: — А что я должен делать? Живу как могу.
— Мог бы иначе, — сказал Шалагин.
— Это работать?
— А ты пробовал?
— И пробовать нечего. Вот! — Плещеев вытянул пальцы, они дрожали.
— Так, — сказал Шалагин. — Еще не до того себя можно довести умеючи.
Им подали еду.
— Одну неделю походишь трезвый, — сказал Шалагин, — трястись перестанут. Самому небось тошно с протянутой рукой ходить.
— Я не хожу с протянутой рукой! Я артист!
— Брось, какие мы с тобой артисты. Что песенки умеем петь? Это все умеют. Ты что не ешь?
— Водочки, — сказал Плещеев. — Глоточек.
— Тут нельзя. Плакат висит.
— Плакат!.. Позови официантку. У нее такой чайничек есть.
Официантка, стоя у буфета, на них уже поглядывала в ожидании.
Шалагин пристально посмотрел на Плещеева:
— Вот ей-богу! Ну… — Он обратился к официантке: — Принесите… это самое… из чайничка.
— Один момент, — виолончельным голосом сказала официантка.
— Письма есть от Марии? — спросил Шалагин, понизив голос.
— Была телеграмма. Про Леню запрашивала. Я ей написал, что он у меня. Посылку присылала…
— И все?
— Пишет иногда. Леня отвечает…
Официантка поставила перед ними два стакана в подстаканниках.
— Ну — за твое здоровье, — сказал Шалагин.
— За твое! — сказал Плещеев. Выпил и пригорюнился. — Эх, Гриша, помнишь, как ты про нас говорил: в чешуе как жар горя, тридцать три богатыря… Вот тебе и тридцать три богатыря! Алеши нет, и я не жилец уже…
— Ты брось этим козырять, что ты не жилец, — сказал Шалагин. — Не очень-то жизнью швыряйся, рассердится. Я заметил: когда человек от нее отворачивается — она от него тоже. Она, брат, тех любит, кто на нее наседает… Насчет сына, — продолжал он. — Ведь это он для тебя живет, а не ты для него. И вечно это, конечно, продолжаться не может. Сейчас он с тобой нянчится, а скоро — увидишь — покрикивать начнет.
— Не посмеет! — сказал Плещеев.
— Вырастет — посмеет. И будет тебе тогда, Леня, кисло.
— Мне и сейчас не сладко!
— Тем более, — сказал Шалагин. — Надо, значит, стать на такую позицию, чтоб он тебя уважал. А попробуй на завод. Что-нибудь подходящее подберем, а?
Плещеев оттолкнул тарелку:
— По-вашему, человек пострадал в бою — этого мало, чтоб его уважать…
— Ты б, брат, видел, на что ты похож, — тихо сказал Шалагин.
— Имею право на уважение, — ожесточенно твердил свое Плещеев, — даже если не буду работать в социалистической промышленности! А что я одет неважно…
— Только ли, что одет неважно! Давай-ка, знаешь, не о социализме и коммунизме, а о том, какой ты вид имеешь. Совсем молодой еще…
— Ну, где там! — возразил Плещеев, не без кокетства впрочем.
— …а на старика смахиваешь. Сколько дней не брился?.. Ты все на высокие материи сворачиваешь, а знаешь, что от тебя разит, да, разит?! Перегаром, болезнью… от молодого, сильного — да, сильного, не морочь мне голову! Ты воображаешь, Мария от разбитого сердца сбежала? От отвращения!
— Ну да! — ужаснулся и не поверил Плещеев.
— От духа твоего чумного! Попробуй подыши. Я бы сбежал! Да сын подрастет — он же тебя стыдиться будет, а что ты думал? Разве что и его погубишь — приучишь… Не ради социалистической промышленности приглашают тебя работать, а тебе, дура божья, надо из болота ноги вытянуть, чтоб не захлебнулся в собственной дряни!