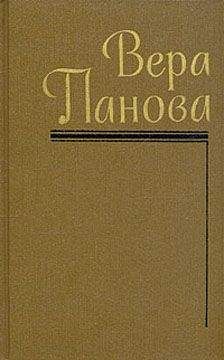— А ты уж и рада, что я отказалась…
— Жадная…
— Вот и жадная…
Тонино оживление погасло.
— Пожалуйста! — сказала она, дернув плечиками, и скучная пошла назад, а Полина с веселым лицом поспешила за Шалагиным:
— Надумала все же, Гриша, тебе помочь.
— Больно платье шикарное, — поддразнил он. — Не испортишь?
— А что на него, на то платье, молиться, что ли, — сказала Полина.
— А правду говорят, — спросил Ахрамович, когда они втроем в Подборовье грузили на машину заготовленный Шалагиным лес, — будто ты Плещеева с мальчонкой к себе забрать собираешься?
— Не совсем так, — ответил Шалагин. — Два входа будут: один мой, другой его.
Полина, подняв бровь, поглядела любопытно.
— Это в том случае, — продолжал Шалагин, — если хозяйка моя не будет возражать.
— И хозяйка уже есть? — спросил Ахрамович.
— Да наметил.
— Хорошая?
— Да ничего вроде.
Полина, отвернувшись, силилась поднять бревно. Шалагин подошел, сказал с лаской:
— Дай я, Поля.
И такими добрыми глазами взглянул ей в глаза, что озарилось, смягчилось, стало девичьим от растерянности ее дерзкое лицо.
Фрося сидела в кабинете у Мошкина. Мошкин что-то писал.
— Так и сказал, значит, — спросил он, — «свежим ветром должно повеять»?
— Так, — подтвердила Фрося.
— «Придется советоваться с кадрами»?
— Так.
— Себя имел в виду?
— Это не могу сказать.
— «Графин звенел»?..
— Звенел…
— «Нельзя игнорировать кадры»? «Не выйдет»? Этими самыми словами?
— Да, именно, я хорошо запомнила, — сказала Фрося. — Очень гордо говорил. А люди ведь слушают. Мало что может быть, я и подумала: зайду к вам, посоветуюсь.
— Правильно сделали, — сказал Мошкин своим бесцветным голосом. — Так и обязаны поступать честные советские граждане. Я передам ваш сигнал куда следует. Сигнализируйте и впредь. Обо всем.
— Я постараюсь, — сказала Фрося.
Снова, как когда-то, шел Плещеев утром на завод. Он был побрит и почищен. Шалагин вел его.
Сотни людей их обгоняли.
— Здоров, Леонид! — окликнул знакомый. — На работу, что ли?
— Я — только попробовать! — сказал Плещеев. Беспокойная усмешка являлась и пропадала на его губах. — На автомат какой-то ставят… Не получится — бывайте здоровы!
— Слышишь, Григорий, — капризно сказал он Шалагину, — не понравится уйду, и ты ко мне тогда не приставай.
Несколько парней приостановились у входа в цех, глядя на приближающегося Плещеева. Они молча расступились перед ним. Он шагнул — и во мраке, окружающем его, услышал родной, деятельный, многоголосый шум цеха.
Это не тот был жалостный вид, что у Плещеевых на постройке. Двое здоровых, сильных взялись за дело. Пилили ли они, работал ли Шалагин рубанком, подносила ли ему Полина готовую оконную раму — все у них получалось ловко, споро, им на радость. И вырастал дом.
Светил месяц на белые стружки, на брошенный топор. Шалагин и Полина сели передохнуть. Он нарезал хлеб складным ножом. Пили молоко, передавая друг другу бидончик. И Жук был тут же.
— Была ты Алешиной женой, — говорил Шалагин, — не то что сказать что-нибудь, — сам перед собой старался делать вид, что ничего у меня нет к тебе…
Полина смотрела на месяц.
— Ты, конечно, Алешей на все сто процентов была занята, иной раз встретимся — даже не заметишь меня…
Она повернула голову и серьезно, внимательно оглядела его лунно-светлым взглядом.
— А то улыбнешься, поздороваешься — хожу и тоже улыбаюсь, как малахольный…
— Надо же! — шепнула Полина. — У меня и мысли не было… Ты все с девчонками гулял. Не похож был на вздыхателя.
— Еще чего! — сказал Шалагин. — Это уж совсем было бы ни к чему.
— Я… — начала она, глотнула воздуху и замолчала.
— Что?
— Да нет, так… Ты, наверно, про меня чего ни наслышался…
Она говорила с трудом, запинаясь:
— Это им ничего не стоит — разобрать человека по косточкам… Никто не подумает, что нужно женщине… Женщине основа жизни нужна. Если она взялась за руку, то чтоб в уверенности была, что — крепко…
Он взял ее за руку:
— Все будет хорошо, Поля.
— Разве может быть, как было? Как было — никогда уже не будет. Молоденькие мы были…
— Погоди, может лучше будет, — сказал Шалагин.
— Тогда у нас за плечами, — сказал он, — ничего, кроме юности, не было, а сейчас оглянешься — ух ты, сколько!..
— Глянь на меня, — сказал он.
Леня Плещеев прибежал в барак, где жила вдова Капустина со своими четырьмя детьми: сыном Павкой и тремя девочками поменьше, похожими друг на друга, как три белых мышонка. Девочки выносили из барака узлы и всякую утварь, а Павка укладывал это имущество в тачку, стоявшую на улице.
— Переезжаешь? — спросил Леня.
— Как видишь, — солидно ответил Павка. Он прилаживал среди вещей небольшую коробку, перевязанную веревочкой.
— Не сомнется? — спросил Леня. — Хочешь, я понесу?
— Не должна смяться.
Павка в их дружбе главенствовал. Он был ловок, крепко сбит. В семье, между погодками-сестрами, держался хозяином и мужчиной. Кроме того, у него имелись высшие интересы. В коробке, перевязанной веревочкой, находилась его коллекция марок.
Из барака вышла Капустина с узлом, за ней гуськом три девочки.
— Поехали! — сказала Капустина. — В добрый час!
Павка покатил тачку. Леня помогал ему руками и животом.
Капустины вселялись в новый пятиэтажный дом. Он только что был отстроен, пока один-единственный — там, где до войны тянулась целая улица высоких домов. Его окна еще забрызганы были мелом, кое-где лишь виднелись занавески.
В одной из квартир Капустиным предоставили хорошую, просторную угловую комнату.
— Мама, мама, — спрашивали девочки, — а где мы будем спать?
— Мы с вами в этой половине будем спать, — отвечала Капустина, — а Павка здесь. Это пускай его будет окно. Вы сюда не касайтесь.
— А почему Павке целое отдельное окно? — спросили девочки.
— Потому что он молодой человек, — ответила Капустина, и видно было, что этот молодой человек — главная в ее жизни любовь и надежда.
А Павка и Леня, небрежно оглянув квартиру, уединились в чистой, еще пустой кухне и занялись коробкой с марками.
— Вот это новая, — сказал Павка, раскладывая марки на плите. Бразилия.
— Вот дьявол! — восхитился Леня: — И откуда ты достаешь?
— Это мне старик дал. Знаешь — который зимой без шапки ходит. Ух, у него коллекция!.. Надо попробовать зимой ходить без шапки.
— А не загнемся?
— Старик не загнулся, а мы загнемся? — сказал Павка.
Они завороженно перебирали пестрые, разноязычные марки, воплощавшие для них весь земной шар.
— Вот, везде побывать, — сказал Павка, — тогда можно умереть спокойно.
— Ясно, тогда и умирать не жалко, — подтвердил Леня.
Они говорили о смерти с беспечностью людей, убежденных в своем бессмертии.
И Сотников привез в новый дом свою семью. Прямо со станции привез жену, двух сыновей и старушку мать. Они поднялись по лестнице, шофер помогал нести чемодан. Вошли в квартиру — там было пустовато, необжито, но уже стояла нужная мебель. Старушка села в кресло и сказала:
— Прямо не верится.
Сотников наклонился, поцеловал ее седую голову, прикрытую старинным черным кружевным шарфом:
— А ты, мама, прекрасно выглядишь.
— Говори громче, — вполголоса сказала жена. — Она слышит неважно.
Жена Сотникова была не первой молодости, судьба трудовая и скитальческая была написана на ее лице, руках, одежде. Она сразу принялась разбирать чемоданы, устраивать детям постели, готовить чай.
Сотников с мальчиками вышел на балкон. Оттуда, с высоты, как на ладони был виден завод, железная дорога, шоссе с бегущими машинами.
— Вот, ребята, — сказал Сотников, — мое хозяйство. Ничего?
— Ничего, — застенчиво откликнулся старший сын. Оба сына немножко стеснялись отца — отвыкли.
— А вон, — сказал Сотников, — самолет летит.
— Мы видали самолеты, — сказал младший сын.
— А вон там, — сказал Сотников, — это еще следы бомбежки.
— Мы видали бомбежку, — сказал младший сын.
Потом оба мальчика крепко уснули вдвоем на одной кровати, а для Сотникова с женой настал час тихого душевного разговора.
— Как я устала, — сказала жена. — Если бы ты знал.
— Теперь отдохнешь, — сказал Сотников.
Наступила ночь. Публика расходилась с последнего киносеанса. Гасли окна.
По шоссе по направлению к поселку шла машина.
Последние парочки исчезли с улиц. Закрылся магазин, сторож уселся возле него на ночное дежурство. Машина тихо въехала в поселок, заскользила по улицам и пустырям, остановилась перед новым домом.