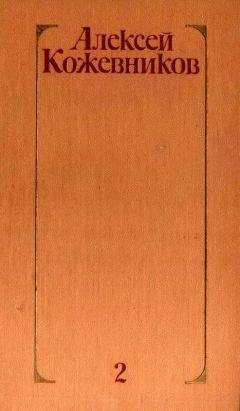Мариша собиралась в больницу на дежурство, зашпиливала перед зеркалом косы. Пришел Борденков, спросил, остался ли в прошлый раз спирт.
— Посмотри в шкафчике. Тебе зачем?
Борденков, не отвечая, достал спирт, было его с полбутылки, и выпил из горлышка.
— Нашел? — спросила Мариша, не оглядываясь.
— Нашел и выпил.
— Выпил? — Она оглянулась и по гримасе на его лице убедилась, что действительно выпил. — Весь? Ты же отравишься!
— Не отравлюсь. Не в первый раз. — Григорий подошел к Марише. — А ты думала, в первый? В первый было давно. В ту самую весну, когда ты исчезла. С месяц я ждал тебя, ждал письма, а потом взял и напился. Знаешь, сколько я выпил? Две бутылки. Двадцать четыре рюмки, и каждую за тебя. Вот отчего ты в тридцать пять лет такая молодая и красивая.
— Гриша, что с тобой?
— Ничего.
— Ты ссориться пришел? Обижать меня?
— Упаси боже! Прощаться. — Григорий взял и выдернул из Маришиных волос шпильки. Косы упали ей на плечи.
— Гриша!.. Я закричу! — пригрозила Мариша.
— Ну, зачем… Человек пришел прощаться. Дай уж ему поглядеть на тебя на такую, какую он тебя любил. Давай сядем на диван и посидим; пускай это будет топчан на Первой Набережной улице, тебе двадцать три года, а мне двадцать.
Мариша села. Григорий сел рядом.
— Вот так, хорошо. Дай мне руки! Восемь лет я тосковал по ним.
— Гриша, да ты что сегодня?.. — сказала Мариша.
— Я скоро уйду. Я ведь прощаться.
— Да куда ты… Мелешь спьяну.
— Может быть, и никуда. Останусь здесь, а попрощаться надо. С той, с Маришей-то, с прежней. Ты не обижайся! Я с тобой откровенно. Попрощаться, сказать тебе спасибо и схоронить. Сколько я в жизни перетерпел, ты знаешь! А от тебя — больше всех. Ты молчи, не оправдывайся, знаю, что не виновата, а мучила больше всех. И все-таки тебе — спасибо! Ты же и сберегла, сохранила меня. Ну, прощай! — Григорий поцеловал Маришу.
— Ты куда?
— К ней.
— И вот такой пьяный? Ты не гляди на меня: я — то ведь сколько лет тебя знаю, не осужу.
— И она не осудит.
— Разве обязательно сейчас, сегодня?
— Обязательно! И напиться, и с тобой поговорить, и к ней — все обязательно сегодня.
Прямиком через тальник и болото, минуя домики, Григорий вышел на совхозное поле. С прошлого года поле сильно расширилось, по обочинам его лежали груды выкорчеванных пней и кустарника. В трех местах на поле работали небольшие группки людей, работали склонившись; узнать сразу, там ли Христина, было трудно, и Григорий сел на пенек, начал следить за теми, кто выпрямлялся и переходил с места на место.
Христина работала в южном конце поля. Григорий узнал ее по росту, по походке, по ее особенным взмахам рук. С нею был высокий, одетый в белое мужик и двое ребятишек. Григорий догадался, что это Куковкин с дочками. Борденков сделал круг лесом и вышел к Христине так, что получилось, будто он бродит по острову давно, здесь же оказался случайно, по пути. Он остановился на тропе, которая шла по краю поля. На тропе лежала куча мха. Куковкин сшивал из пластиков мха продолговатые маты величиной с детское одеяльце. Девочки катали по лункам, пробитым на тропе, пестрый тряпичный мяч.
Христина разглядывала что-то на грядке. Борденков спросил Куковкина, как показались ему эти места.
— Места ничего. Везде работать надо. Места похожи на наши: мох да пень и земля серая.
Христина, заслышав разговор, испуганно выпрямилась. Борденков, не дожидаясь, когда договорит Куковкин, перешел от него к Христине.
— Здравствуйте!
Она инстинктивно, не думая о том, спрятала руки за спину: руки, открытые по локоть, выше кистей были вымазаны серой илистой землей. Борденков взял Христину за локти.
— Что вы ищете тут, всходы?
— Мы еще не сеяли. — Христина отняла руки, достала из грудного кармана байковой синей кофты термометр. — Посмотрите!.. Вот, на высоте метра — одна температура, немножко пониже — другая, теплей, самая высокая — у земли. — Она склонилась с термометром над грядкой. — Видите, теплей на целый градус.
— А еще ниже, в земле?
— Там очень плохо. Совсем близко — ноль. И главное, совсем близко, копни лопаткой, и ноль. — Она сунула термометр в карман, вздохнула и начала глядеть в сторону, мимо Борденкова, со страхом ожидая, что скажет он дальше. «Так, просто, не придет. Нет, — раздумывала она. — Просто — ему некогда. Он, пожалуй, и не умеет просто. У него только сперва просто… Чехов, грядки, всходы. А потом… „Собирайтесь-ка и марш с этого берега. Нам таких не нужно…“»
— А еще что делаете? Расскажите, мне интересно, — сказал Борденков.
Христина показала парники, где выгонялась рассада. На ночь парники закрывались моховыми матами, какие делал Куковкин. Христина называла их одеяльцами.
— И грядки, чуть что, будем прикрывать одеяльцами. Я думаю подложить эти одеяльца и вниз, под почву, оградить ее от глубинного холода. Я никогда не видала такой бедной, мертвой почвы, какая здесь. В ней страшно слаба микроорганическая жизнь. Чтобы пробудить эту жизнь, надо без конца валить навоз, давать тепло. Валить многие годы. — Рассказывая, Христина вопросительно взглядывала на Борденкова: «Все-таки зачем же пришел он? Неужели только за этим?»
Он слушал терпеливо, внимательно, о непонятном переспрашивал, и она охотно открывала ему свои замыслы и опасения.
Они стояли на краю поля. За спиной у них был лес, откуда веяло незнакомым Борденкову запахом каких-то цветов и трав. Григорий спросил, какие же на острове растут цветы.
— Да обыкновенные, наши. Пойдемте, посмотрим. Кстати, я вымою руки. Тут недалеко болотце.
Лес был редкий, с обширными моховыми и травянистыми полянами. На моховых полянах густо росла брусника, голубика, морошка, на травянистых цвели ромашки, акониты, иван-чай, пионы и незабудки.
— Встречали, знаете? — Христина срывала цветы и спрашивала, как зовут их.
Григорий знал почти все. Такие же росли и у Большого порога, и в тайге, только назывались многие местными именами.
— А вот все вместе почему-то совсем по-другому пахнут. — Григорий набрал букет из всех цветов, подал Христине. — Слышите? Есть что-то горькое. В наших краях медвяное, а здесь — горькое.
— Земля такая, горькая. — Христина вымыла руки, села на пень и начала перебирать цветы.
Григорий лег на траву.
— У вас что, свободный день? — спросила Христина.
— Да, свободный.
— И вы решили проведать меня?
— Да.
— А я думала, что и не взглянете после той несчастной истории.
— Теперь мне самому приходится думать об этом же. — Григорий прошел к болотцу, смочил холодной водой свою хмельную голову и, остановившись перед Христиной, рассказал, как очутился чуть ли не во вредителях.
— Неужели нельзя оправдаться?
— Не хочу. Я понимаю, когда на войне… вышли мы, вышли они. Кто сильней, тот и бьет. Там все справедливо. А здесь три дурака, а может быть, и мошенника, написали: «Борденков пренебрегал, нарушал»… и Борденков должен год-два ходить и краснеть… Они — комиссия, у них акт. А я один, и у меня не акт, а всего только возражение. Комиссия. Ну, значит, и быть по тому. А что вы думаете? И с вами может так же получиться. Вот настанет осень, и к вам придут… Комиссия. «Как, ни морковки, ни свеколки?! Что вы делали целое лето?» И появится страшный акт…
— Доказать можно, поспорить с ними. Дядя-то разберется.
— Чем же мы с вами докажем? Морковкой да свеколкой. Домами да бараками. Одно это убедительно. А на это нужны годы… Сколько нужно вам лет, чтобы и картошки и капустки было вдоволь? Три, пять, десять?
— Не знаю.
— Ну, и дядя не знает, сколько ждать, сколько терпеть. Выходит, и он прав.
Григорий умолк. Христина опять начала перебирать позабытые было цветы. Григорий стал помогать ей.
— Идемте, Куковкин еще подумает что-нибудь, — сказала она, поднимаясь.
Григорий взял ее под руку и повел в глубь леса, бормоча:
— А пускай думает. Люди о людях часто зря думают. И я подумал однажды, а вот сейчас пришел к тебе, про которую подумал… Подумал, что ты черствая, хитрая. И ошибся. Ты и сама не знаешь, какая ты маленькая, добрая, простодушная.
Христина догадалась, что началось то главное, ради чего пришел Григорий, и первым чувством было желанно убежать, оставить все так, как есть. Она попробовала отнять руку, но Григорий взял и другую и начал целовать Христину. Целовал и говорил:
— Хорошая ты моя, маленькая, глупенькая…
— Пустите! Что вы… — шептала, отбиваясь, Христина. — Вы пьяны.
— Ничего-то ты не знаешь. Тебя любят… Любят. И ты ведь любишь?
Христина высвободила одну руку, быстро обняла Григория, поцеловала и оттолкнула.
— Знаю. Пусти! Какой нескладный. Ты же первый целовал меня, первый — и пьяный. Всю жизнь досадовать буду.