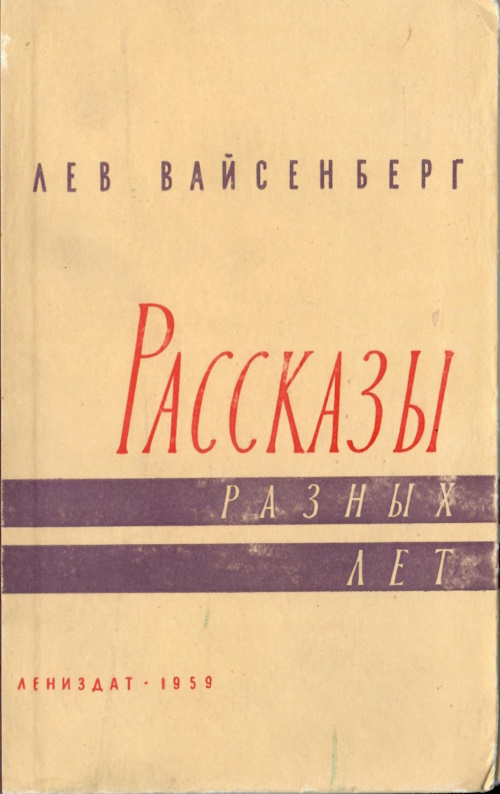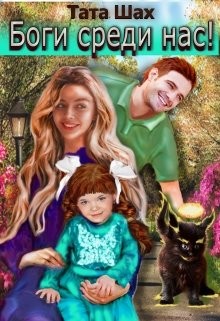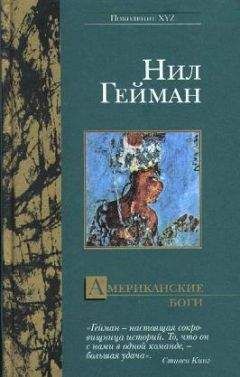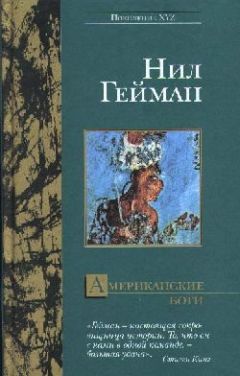он озирается по сторонам, хотя в сарае было темно. Затем она услышала, как он над чем-то возится, и вслед за этим забулькала вода. — Возьмите! — сказал солдат, сунув ей что-то в руку.
Бетта нащупала кружку. Вода, вода! Жажда вдруг вспыхнула с новой силой, и Бетта готова была схватить кружку, но тут же отдернула руку: разве она не дала себе клятву не брать и капли из этих подлых рук?
— Пойдите вон! — сказала она гневно.
— Возьмите, — настаивал солдат. — У меня тоже есть мать...
Она с горечью усмехнулась.
— Я видела, как вы обращаетесь с матерями.
— Это не наша вина — нас заставляют... Прошу вас, возьмите... — Он сунул ей кружку в руку. Бетта не в силах была оттолкнуть ее и жадно прильнула губами к воде. Капли воды стекали на платье. Солдат налил вторую кружку.
— Спасибо... — сказала она.
— Пейте, — шепнул солдат. — Он наклонился к Бетте. — Извините, мать, что пришлось так обойтись с вами... Я сам... — голос его стал едва слышным, — я сам... ненавижу Гитлера. — Какая-то женщина застонала в дальнем углу. Он вздрогнул. — Молчите, мать, или нам обоим не поздоровится...
Он быстро вышел, щелкнул снаружи засов.
Бетта лежала, не шевелясь. Всё было таким же, как до его прихода. Быть может, солдат вовсе не приходил сюда?. Быть может, она, изнемогая от жажды, бредит? Разве не читала она еще в школе, как в безводной пустыне, умирая от жажды, бредит путник студеным ключом? Но почему, в таком случае, она ощущает на платье капли? Нет, нет! Это не бред. Губы ее освежены водой, которую ей дал в кружке солдат.
Почему солдат принес ей эту воду? Зачем называл ее матерью? Отчего проклинал Гитлера?
Бетта подошла к дверям сарая. Они были заперты снаружи. Она припала к двери, вглядываясь в ночь через узкую щель. На фоне предрассветной тьмы она увидела спину солдата. Она долго стояла, не отрываясь от щели. Туман поднимался с ночной земли и вслед за тем устремлялся к небу. Невидимое, но близкое солнце угадывалось за этим туманом.
И вдруг в ней шевельнулась вера, что так долго длиться не может, что вслед за этим страшным мраком, окутавшим ее жизнь, наступит свет.
1941 год
Он приближался к дому, в котором не был четыре года. Война осталась позади. Ему хотелось поскорей обнять, расцеловать жену и малыша.
И только одно смущало его: письмо без подписи, полученное им в день отъезда из части, — оно сообщало о близости его жены с каким-то инженером Ефимовым.
«Кто автор послания? — размышлял Баринов. — Завистливая подруга? Отвергнутый мужчина? Соседка, обратившая кухонную стычку во вражду? Кому хотел навредить доносчик — ему, жене или этому третьему, инженеру? Не посовеститься послать такое письмо на номер полевой почты! Какое доверие можно питать к подобной бумажке?»
Майор юстиции Баринов знал цену подобным посланиям: за ними обычно скрывается клеветник.
И всё же...
Баринов не виделся с женой с начала войны. Жена была хороша собой, общительна. Тень правды, уловленная им в письме чутьем следователя, заставила его насторожиться. Он решил выяснить истину с первых же минут встречи, чтобы не поставить себя и жену в двусмысленное положение.
— «Я всё расследую», — думал он, чувствуя, как радость и нежные слова, которые собирался произнести, улетучиваются и как мысли его облекаются в привычную для него форму допроса.
Но когда наступила минута встречи и он сидел рядом с женой на диване, держа в руках ее руки, а сын теребил его погоны и ордена, нельзя было не забыть о письме. Радость и нежные слова вновь возникли в его душе, и он уже готов был их произнести, как вдруг раздался стук в дверь.
— Войдите, — нехотя отозвался Баринов.
Вошел незнакомый мужчина. Мальчик соскочил с колен отца и с возгласом «дядя Сережа!» доверчиво подбежал к вошедшему.
Гость поздоровался с хозяйкой и представился Баринову:
— Инженер Ефимов.
«Так и есть...» — Лицо инженера показалось Баринову красивым, но неприятным.
— Вы побеседуйте, а я похлопочу по хозяйству, — сказала жена Баринова, явно стремясь оставить мужчин наедине.
— Садитесь, пожалуйста, — сдержанно предложил Баринов, стараясь преодолеть недружелюбное чувство к гостю.
Ефимов молча сел. Молчал и Баринов. Казалось, каждый думает о чем-то своем.
— Война наделала много бед, немало их и в делах семейных, — сказал наконец Ефимов.
— Мы привыкли всё сваливать на войну, — сухо заметил Баринов.
Вошла жена и стала накрывать на стол.
— Мне хотелось с вами кое о чем поговорить, — продолжал Ефимов и, как бы ища поддержки у жены Баринова, взглянул на нее и добавил: — Я решился на это по совету Людмилы Ивановны.
— Да, — подтвердила Людмила Ивановна, — я думаю, Сергею Михайловичу следует с тобой поговорить.
— Ну что ж, говорите, — сказал Баринов, оглядывая жену и Ефимова долгим испытующим взглядом, каким обычно оглядывал обвиняемых, и лицо его стало замкнутым и суровым.
— Я — муж Анны Львовны Ефимовой... — начал гость.
— Анны Львовны?.. — переспросил Баринов, точно недослышав, хотя имя было произнесено Ефимовым достаточно громко и внятно.
— Вы должны были знать ее — она лейтенант юстиции, работала вместе с вами в военном трибунале.
— Анны Львовны?..
И тут Баринов словно увидел перед собой молодую женщину, с которой встретился в сорок втором году, осенью. Их близость возникла неожиданно и была мимолетна, но близость всё же была, не помнить о ней было нельзя, и вот перед ним сидел ее муж, человек, которого он минуту назад готов был судить за то, за что тот, видимо, собирался судить его самого.
— Анна Львовна не говорила мне, что она замужем, — сказал Баринов, стараясь скрыть смущение.
— Очевидно, у нее были к тому основания.
«Знает», — подумал Баринов. Он видел, что Ефимов взволнован.
— Мы очень любили друг друга... Она была хорошей женой, — продолжал Ефимов с горечью, — но...
«Наверное, и Людмиле известно», — подумал Баринов, вдруг осознав всю трудность положения, в которое попал, и чувствуя, как из судьи, каким он готов был стать своей жене и Ефимову, он превращается в подсудимого. Его охватил стыд.
— Во всем виноват я сам, — услышал он, к своему удивлению, голос Ефимова.
— Я не совсем