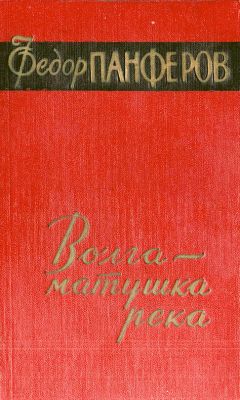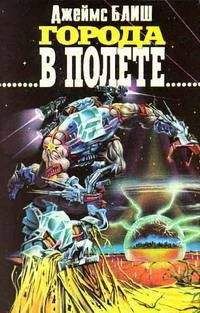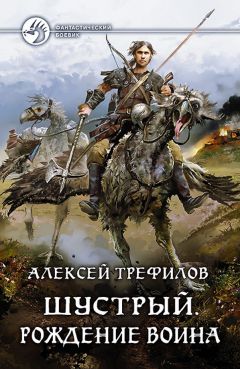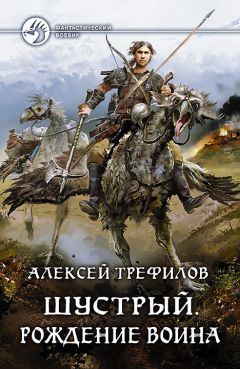— Видите, Елена Петровна, выполнил ваш приказ: прибыл. — Острые глаза Рогова потеплели, и он заговорил, уже обращаясь ко всем: — Дорогие товарищи! Я понимаю, что профессор Уралов в шутку кинул словечко — «гений». Нет, даже шутить этим нельзя: мы не гении. Мы люди, овладевшие диалектическим материализмом. На основе и благодаря учению классиков марксизма мы проанализировали все существующие научные факты в области микробиологии, переступили через запрещенную черту и опровергли то, что столетие держалось как незыблемое. Мы это незыблемое опровергли не только путем анализа фактов, но и путем сотен опытов. До открытия Пастера люди не знали, как лечить страшную болезнь — бешенство. Случайный укус бешеной собаки, кошки, волка — и человек неизбежно гибнет в страшных муках. Нет спасения. И вот Пастер занялся этим вопросом. Он взял мозг бешеного животного и привил его кролику. Кролик через несколько дней погиб. Тогда Пастер взял мозг от этого кролика и привил другому. Тот тоже погиб. Таких прививок-опытов Пастер проделал больше ста и под конец заметил, что мозг, взятый от погибшего кролика и привитый другому животному, вдруг не смертельно подействовал на него, а наоборот, создал иммунитет.
— В этом великая заслуга Пастера… и он данным опытом не опроверг, а наоборот, подтвердил свое учение, — подал реплику профессор Уралов. — Эх, вы! Молодо-зелено.
— Молодость, профессор, качество не вредное. — И Рогов снова обратился ко всем. — Законы науки, товарищи, существуют независимо от воли и сознания человека. Эти законы человеку положено открыть, познать и использовать. Пастер эмпирическим путем постиг один из законов науки. До Пастера было замечено, что не все люди, укушенные бешеным животным, гибнут. Иные переносят эту болезнь незаметно. Стало быть, в природе существует какой-то закон… Этот закон Пастер и открыл эмпирическим путем. Профессор Уралов, неужели вы думаете, что первичная бактерия, несущая функции заражения бешенством, такой и осталась после сто тридцать шестой прививки Пастера? Если бы она не изменилась, то обязательно вызвала бы бешенство. А ведь не вызывает. Значит, она изменилась, значит, она несет иную функцию. Значит, бактерия — существо изменчивое, значит, Пастер этим опытом опроверг свое же утверждение, что бактерия неизменчива. И мы, основываясь на подобных опытах, сами проделав их не одну сотню, пришли к выводу, к какому должен был бы прийти и Пастер: бактерия изменчива, бактерия превращается в вирус, вирус — в бактерию, те и другие — в кристаллы, и наоборот…
— Почему же, по-вашему, Пастер не пришел к такому выводу? Что ему мешало?
— Идеология, дорогой профессор.
— А! Перестаньте. Мы с вами не на политзанятиях. Идеология! Идеология! При чем тут идеология? — раздраженно прокричал Уралов.
— Да, профессор, вам бы следовало побывать на политзанятиях, — задумчиво и с сожалением проговорил Рогов. — Вы, дорогой мой учитель, своим противочумным препаратом подтвердили все то, что доказываем мы, ваши ученики.
— Это не мой препарат… Это — Лайга, — гневно поправил Уралов.
— Да какого там Лайга! Ведь я тогда работал у вас и знаю, что Лайг сначала отпросился у вас в Минск, застрял там, а когда город был захвачен гитлеровцами, вор сбежал в Америку и там опубликовал препарат под своим именем. У вас нет патента? Мы, ваши ученики, свидетели — ваш патент. Вы боитесь об этом сказать, боитесь того, что вас будут обвинять за непростительную беспечность? Но от этого не меняется суть вашего открытия, указывающего, что бактерия изменчива.
— Я никаких изменений в учение о микробиологии не вносил…
— Вот это очень плохо, профессор, закрывать глаза на правду, — грустно произнес Рогов. — Но… но вы закрываете глаза на правду, а мы не хотим, не имеем права.
7
После заседания Пухов, зайдя в кабинет Морева, сказал:
— Нам следует быть по-настоящему гостеприимными.
— А что? — недоуменно спросил Аким Морев.
— Рогов в понедельник собирается в Москву. Давайте в воскресенье пригласим его на обед… Лучше к вам.
— Да у меня — ни тарелок, ни ложек.
— Тогда у Опарина. У него квартира обжитая, и он же голова областной Советской власти.
— Хорошо. А Елена Петровна не заходила к вам? — тушуясь, спросил Аким Морев.
— Как не заходила! Получила грамоту за подписью председателя облисполкома с разрешением применить препарат Рогова в Степном совхозе и поблагодарила…
«Вот как: опять к нему зашла, а ко мне нет, — снова с обидой подумал Аким Морев. — Ну, конечно, отправляется делиться радостью с Любченко».
Но Пухов продолжал:
— Очень уж настойчиво просила передать вам большое спасибо: «Скажите ему, пожалуйста, я на всю жизнь… на всю жизнь благодарна Акиму Петровичу. На всю жизнь». Повторила несколько раз. К чему бы это, Аким Петрович?!
— Ну… ну, мало ли что придет в голову молодой женщине.
— Всякое, конечно, может прийти в голову молодой женщине, — подчеркнул Пухов и с присущей ему откровенностью сказал: — А хорошая бы вы были пара.
— Не шутите. Зачем? — искренне ответил Аким Морев. — Ей под тридцать, мне под пятьдесят.
— Э! В таких случаях на года не глядят. Так собираемся завтра на обед у преда?
— Пожалуй. — А когда Пухов покинул кабинет, Аким Морев подумал: «Чего же это она? То и не смотрит, не заходит, а тут — на всю жизнь. Может, разыгрывает меня Александр Павлович?.. Я, возможно, к Опарину и не пойду».
На обед он, конечно, пошел.
Да это был и не обед, а скорее ужин с пельменями, на что оказалась мастерицей не только жена Опарина, но и он сам. Предоблисполкома даже разбушевался за столом, доказывая, что в пельмени мало положено чесноку, на что Пухов сказал ему:
— А что же ты, братец, сам мясо не приготовил?
Опарин, не поняв шутки, серьезно ответил:
— Некогда было: досматривал бюджет. Ну, людей посылаю в Москву на утверждение бюджета.
— Для всей области? — опять скрывая смех, спросил Пухов.
— Для всей. А как же? — И тут Опарин, догадавшись, сам засмеялся. — Да ну тебя! Я серьезно, а ты…
За столом Аким Морев оказался рядом с Еленой, понимая, что так подстроили жены Пухова и Опарина, которые усиленно ухаживали за Роговым, однако то и дело посматривали на Акима Морева и Елену Синицыну.
А потом… потом они очутились вдвоем вот здесь, на этой же скамеечке.
Поднималось солнце, а из Казахстана дул пронзительный, зябкий ветер и приятно холодил лицо.
Они сидели молча, временами украдкой посматривая друг на друга, словно боясь спугнуть что-то огромное и важное для них обоих.
И сейчас, в изобилии весеннего солнца, в степных просторах, расхлестнувшихся за Волгой, в самой могутной реке, он видел ее, Елену, столь же золотистую и обещающую, как и наступающая весна.
1
Солнце припекало так, что, казалось, под его лучами все разворачивается и потрескивает. Разворачивались крылышки почек на деревьях, разворачивались скрученные осенними холодами, побуревшие за зиму листья, согнанные ветрами в ямочки, прибитые потоками к тем или иным выступам; гудрон на тротуарах потрескивал, потрескивали и железные крыши на зданиях, стекла же в окнах, казалось, пошевеливались: по ним бегали лиловатые блики, а временами вспыхивали яркие огни, словно изнутри зажигались прожектора. И Волга стала другой: она течет уже не плавно, а вся колеблется, вздувается, точно норовит приподняться и брызнуть отраженным изобилием солнца в высь синего безоблачного неба.
Весна врывалась бурно…
И Аким Морев по-хорошему затосковал.
«С того дня прошло уже больше двух месяцев, — думает он, сидя на скамейке в скверике. — Она временами мне звонит и говорит только о своих делах… и ни звука, ни намека о том утре. Ни звука! Видимо, то было мимолетное, случайно вспыхнувшее, а потом, когда вернулась в Разлом, увидела Любченко. Да неужели она свяжет свою судьбу с ним? Значит, бугорок оказался горой». Но, мысленно произнеся эти слова, он улыбнулся явному несоответствию. Вот почему вдруг налетевшая на него грусть так же внезапно рассеялась, и он снова почувствовал себя впервые влюбленным юношей, когда кажется, что, кроме нее — любимой девушки, — никого и ничего на свете нет. Поднявшись со скамейки, он еще раз посмотрел на брызжущую солнцем Волгу, на оживление у пристаней, на бегущие баркасики, грузовые пароходы, лениво отваливающую баржу-переправу, переполненную грузовиками, на заканчивающуюся постройку набережной и направился в обком партии, уже становясь совсем другим в своих чувствах и помыслах.
Он вовсе не сожалел о том, что приходится покидать эту скамейку, — наоборот, он шел быстро, одухотворенный только что виденным, как шел бы отсюда художник, которого эта бурная весна побудила к творчеству, и он, переполненный чувствами, думами, отправляется в свою мастерскую, чтобы там выполнить задуманное. Разница между Акимом Моревым и живописцем в данном случае заключалась только в особенностях их труда: художник спешил бы к своим краскам, к своему полотну, а Аким Морев спешил в обком партии, к своему столу, куда невидимо стягивалась вся деятельность области — сотен тысяч людей, начиная от рядового колхозника и кончая самым передовым ученым, новатором.