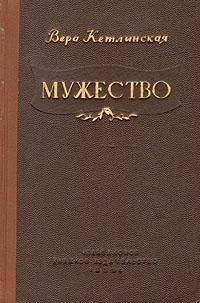Они ели пирожок за пирожком, подхватывая в ладонь крошки, и смеялись тому, что они, оказывается, страшно голодные, а пирожки все же вкусные, и они едут, едут, едут…
Заговорили они только ночью, когда Клаша улеглась внизу, прикрытая его одеялом, а он наверху, на жесткой полке, под пальто. Вагон кидало из стороны в сторону, вокруг раздавались храпы, мимо них проходили железнодорожники с фонарями, странные блики прыгали по стенам и полкам от свечи, догоравшей в фонаре над дверью.
Неудобно вывернув плечи, упираясь виском в стекло, Палька заглянул в щель между окном и полкой.
— Клаша! Ты не спишь?
— Нет.
— Я тебя немного вижу. Щеку и висок. Подвинься к стене, чтобы я тебя видел.
Она подвинулась. Странное у нее было лицо в этих качающихся отсветах — незнакомое и очень родное.
— Просунь ко мне руку.
Она приподнялась и просунула пальцы, он подержал их в своих и поцеловал. Оказалось, никакой это не пережиток, если рука — ее.
— Это правда, что ты тут?
— Правда. А это правда, что ты тут? И это твой нос торчит в щели?
— Правда. Симпатичный нос?
— Хвастун! Очень симпатичный.
— Клаша, я тебя люблю.
— И я.
— Нет, ты скажи само слово.
Недовольный неловок с верхней полки завертелся и что-то проворчал. Они помолчали, ожидая, чтоб он уснул.
— Павлик!
— Я смотрю на тебя.
— Знаешь, вчера на вокзале… нет, уже позавчера… я прибежала и вдруг подумала: если он скажет — прыгай и уедем, я прыгну. Ты это понял?
— Нет, я думал, что ты… Нет, я ничего не думал. Я тебя терял, понимаешь? Терял и терял… За это всю остальную жизнь я не отпущу тебя ни на шаг.
— Хорошо. А в Москве мы куда денемся?
— Понятия не имею.
— Вот Саша и Люба удивятся!
Недовольный человек приподнялся и пробурчал:
— Кончите вы шептаться когда-нибудь? Второй час!
Клаша тихонько засмеялась. В качающихся отсветах поблескивали ее глаза и чуть белели зубы.
— Клаша!
— Что?
— Ничего. Хотел услышать тебя. Это здорово, что я тебя увез! И ты приготовься, теперь так и будет — куда я, туда и ты. Не улыбайся, я серьезно.
— И я серьезно. А что, на вашей Подмосковной станции тоже — поле и больше ничего?
— Наверно. Не знаю. Но что-нибудь мне там приготовили, я же все-таки главный инженер и авторитетная фигура. Это ты меня недооцениваешь.
— Я дооцениваю. Очень.
— То-то!
— А что я там буду делать, на вашей станции?
— Слушай, я скажу совсем тихо: любить меня.
Он сказал совсем тихо, но сердитый сосед именно в эту минуту взорвался и посоветовал ездить в отдельном купе, в международном вагоне.
— Учтем, — сказал Палька.
— Сидели бы дома и миловались, раз не терпится, — не унимался сосед.
Вероятно, он был очень обижен жизнью и ни с кем не миловался уже давным-давно, а может быть, — никогда.
— Мы и едем к себе домой, — сказала Клаша.
В ее ответе не было ни насмешки, ни желания поспорить, только счастье. Такое полное счастье, что и до сердитого соседа дошло его умиротворяющее дыхание.
— Ну и поспите пока. Скорее доедете.
Он заворочался, охнул и уже не им, а себе сказал:
— А мне вот не уснуть. Духотища!
Клаша подскочила, как на пружинке.
— Товарищ, а товарищ! Там, над вашей головой, вентилятор. Вы дерните веревочку, он и откроется.
Ворчун дернул веревочку. Вытянул жилистую шею, подышал холодным воздухом, слегка шевелившим его седые волосы. Свесил голову, пригляделся к Клаше и спросил:
— Муж?
И тут произошло самое удивительное, чудесное, невероятное. Клаша улыбнулась ворчуну и без запинки ответила:
— Муж.
День был обычный, он ничем не выделялся из череды других дней, люди заполняли его тем, чем они жили повседневно, и если потом этот день вспоминался по-особому и все события, мысли, поступки и чувства того дня приобрели завораживающую значительность, то лишь потому, что он надолго стал последним днем их мирной жизни. Но в тот солнечный день, в тот теплый вечер конца недели они об этом не знали и даже подумать не могли, что истекают последние часы привычного бытия, что с завтрашнего утра придется в долгой кровавой борьбе отстаивать свое право жить так, как они хотят и любят жить, что в этой борьбе одни падут мертвыми, другие потеряют любимых, что не будет среди них ни одного — без жертв и утрат, что души их пройдут через огонь нечеловеческих испытаний…
В тот день в небе не было ни единого облачка.
…С утра испытывали новый способ сбойки скважин. Павел наволновался и нажарился на солнцепеке. Только он успел выкупаться на запруде и пообедать, как дежурная телефонистка сообщила: звонили из Тулы, к вам идут гости.
— Кто такие?..
— Просили сказать — неизвестные гости.
Клаша испуганно оглядела свое незатейливое хозяйство и спросила: может, что-нибудь испечь? Стряпала она неумело, и вид у нее был как на экзамене, причем экзаменатором оказывался Павел. Она смотрела на него робкими, сияющими глазами и говорила с ним слегка задыхающимся от радости голосом, будто он только вчера ее привез. А ему казалось, что Клаша была с ним всегда…
— Никакой возни! — решил он. — Пойдем навстречу, кто бы они ни были.
Гадая, что за чудаки тащатся пешком, когда есть автобус, они неторопливо шагали по траве — ярчайше-зеленой и сонной, усеянной белыми крапинками ромашек и синими — васильков. Клаша то и дело наклонялась, срывая цветы, а Павел с непроходящей гордостью оглядывал все, что было вокруг, потому что на сухом языке техники это место называлось подземным генератором.
Раздольное поле, недавно принадлежавшее соседнему колхозу, было разрезано на широкие полосы линиями массивных труб: по одним подавалось дутье, по другим выходил газ. От этих магистральных труб, дробя полосу на квадраты, разбегались трубы потоньше — к скважинам. Скважины обозначались рядами черных головок с приборами контроля и ручным штурвальным колесом, — когда-то возле такого колеса Павел пережил минуты огромного душевного подъема, страха и торжества… Они стояли в ряд, как на параде, а глубоко под ними, в раскаленном до 1500° забое, шел процесс превращения угля в газ. Это было уже привычно — и к этому все же нельзя было привыкнуть…
— Ой, Павлик, опять коровы забрались!
Да, колхозные коровы невозмутимо щипали траву возле самых труб, отмахиваясь хвостами от их легкого гула, который принимали, вероятно, за жужжание неведомых насекомых.
— Пускай… Знаешь, Клаша, пройдут годы, уголь выгазуется, мы перейдем на новые участки, а эту землю вернем колхозу, и очень скоро никто не поверит, что тут было предприятие, имевшее дело с углем. Почему вот эту сторону дела не замечают всякие-разные Вадецкие?..
— Потому что не хотят замечать, — твердым голоском сказала Клаша, взобралась на трубу и пошла по ней, притворяясь, что высматривает гостей, — на самом деле она боялась коров.
Павел следил, как она ловко идет по трубе своими детскими ножками в носочках и сандалиях, и продолжал мысленный спор с противниками. Ну, ладно, отстранимся от главного — что тут нет подземного, опасного и тяжелого труда. Допустим, что этого недостаточно. Но когда шахта вырабатывается, все, что построено внутри, — пропадает, капиталовложения списываются. А у нас девяносто пять процентов капиталовложений — надземные, все легко переносится на новые участки. И за нами остается непотревоженная, цветущая земля, нет угольный пыли и уродливых черных отвалов пустой породы. Действительно, не хотят замечать!..
Он усмехнулся, сообразив, что ни Вадецкий, ни другие скептики не были на опытных станциях — ни в Донецке, ни здесь. Вот Лахтин приезжал, не поверил на слово. Поглядев в лаборатории анализы газа, пожевал губами и спросил: «Где у вас скважина?» Ему говорят: это далеко, и туда не подъехать. «Ведите!» Повели под руки. Пришел. «Отверните!» Понюхал, вытащил из кармашка собственную пипетку, взял пробу. «А теперь — в лабораторию!» Лаборантку отодвинул, сам сделал анализ. «Гм… действительно. Вот теперь — верю!» А ведь ему восемьдесят семь!
— Павлик! Смотри, кто это?
Два человека — мужчина и женщина — шли по полю, взявшись за руки и размахивая ими в такт шагам. Остановились… он потянул ее к себе… поцеловал!.. Она оттолкнула его, оглядываясь.
— Илька Александров! Витя!
Павел побежал к ним навстречу, довольный, — они давно обещали нагрянуть, эти непутевые молодожены, и все не ехали.
— К вашему сведению, вы целуетесь прямо над огневым забоем.
Витя изумленно посмотрела себе под ноги:
— Как странно, что под таким деревенским полем бушует пламя!
— Хо-хо! Если б оно бушевало, мы бы получали один дым. Это означало бы, что мы не умеем управлять процессом. А мы уже год бесперебойно даем газ двум заводам.