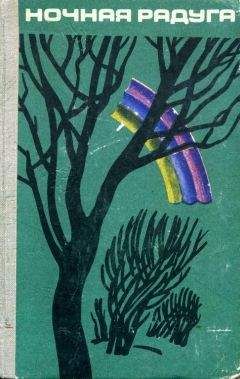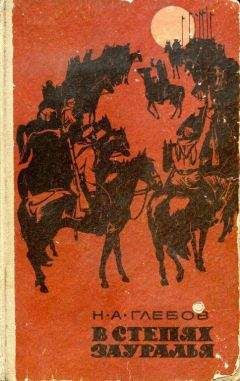Ну, вырубили строевой сосняк — надо, значит. Непонятно только, почему его не вывезли или хотя бы не скатали в штабеля? И уж совсем непонятно было, зачем погубили молодой березник? Так и лежали березки — каждая в детскую руку толщиной, — сраженные под корень одним ударом топора, лежали с необрубленными сучьями, будто после сокрушительного ветровала. На дрова сгодились лишь немногие из них, они были разделаны в метровник и сложены в поленницу. Эта поленница с вбитыми в землю кольями-подпорками, ровная и высокая, стояла невдалеке от камней, как белая гробница, как памятник погибшему лесу.
Солнце спустилось на петушиный, красный от заката гребень гор и, рдея и пуская длинные розовые стрелы, начало скатываться на другую сторону земли. Туманная, розоватая муть сползла с увалов и, крыльями вытягиваясь над распадками, посочилась на просеки и в глухие лесные закоулки. Птицы замолкли. Запахло сырой, волглой землей, от сваленных в кучи сосновых веток остро потянуло перебродившим брусничным настоем.
Мои невеселые размышления прервал неожиданно появившийся вальдшнеп. Я пружинисто обернулся на звук — и сердце заныло в сладостном нетерпении: устало и редко взмахивая крыльями, на меня летел вальдшнеп. Как он мне нужен был в эти минуты! Я был уверен, что вальдшнеп своим появлением прогонит грустные мысли, взбодрит, вольет в душу целебную силу. Будто с простуды хрипящий, цвиркающий, ни с чем не сравнимый его голос звучал для меня сейчас милее священной лиры.
«Хрруп-п, хррруп-п, хрруп-п», — жарко кликал вальдшнеп свою подругу.
«Цвирк, цвирк, цвирк», — вторил ему откуда-то снизу другой.
И вот вальдшнеп плавно пролетает над самыми камнями, поворачивает голову то вправо, то влево, поводит из стороны в сторону длинным клювом. Я различаю на его брюшке землисто-коричневые перышки, пепельно-серые опахала выгнутых полумесяцем крыльев, на мгновение замечаю блестящие капельки черных глаз.
«Хрруп-п, хрруп-п, хрруп-п», — картаво выговаривает вальдшнеп, осматривая камни, лежащие деревья. Он искал подругу среди свежих пней, хвороста, высоких, пожухлых стеблей кипрея, искал на том месте, где нашел ее и в прошлую весну.
Но подруги не было. Слишком неподходящей стала опустевшая гора для птичьих весенних встреч.
Потом еще и еще тянули вальдшнепы; их хорканье, раня слух, уже доносилось со всех сторон. Птицы не забыли давнего игрища, не изменяя инстинктам, спешили на Королевскую тягу, на излюбленную просеку, и летели по ней, неведомо как узнавая ее, будто не видя вырубленного леса.
Когда совсем стемнело и в небе лучисто засветились звезды, я поднялся с камней и направился к реке. У воды разжег огонек и, коротая недолгую майскую ночь, думал о вальдшнепах — да и не только о них, — о той сыновней привязанности к месту, к отеческой земле, которая объясняется одним словом — Родина.
Рыба брала вяло. Меня уже давно перестало тревожить мелкое подрагивание поплавков — наживку теребили мальки, — И я стал смотреть мимо них на перепутанный сухой тростник, на коряжник, паучьими лапами торчащий из воды, на плавучие островки, густо заросшие осокой и рогозом. С утра все же поклевывало, на дне моей лодки трепыхалось с десяток ершей, несколько окунишек да сверкал белизной чешуи красноперый лобастый голавлик. Голавлик иногда отчаянно ударял хвостом, резво подпрыгивал и начинал весело кувыркаться, поблескивая на солнце серебряным веретенцем.
Но начало припекать солнце, а клев прекратился. В озерном заливе всё сразу затихло, успокоилось, ушло с глаз.
Улетели к гнездам вороны, собиравшие на береговых отмелях дохлую рыбешку, спрятались в болотные крепи длинноногие кулички, замолчали голосистые камышевки. Только иногда на травянистом мелководье вдруг шумно всплескивала щука да с протяжным вздохом лопался илистый плавень, пропуская на поверхность пахучий пузырь торфяных газов.
Недалеко от меня на зыбучей лавде[14], ловко орудуя передними лапками и зубами, мастерила хатку ондатра. Ее не смущало, что лавда «вздыхала» и сотрясалась от бродивших под ней газов, не обращала внимания на близкое соседство со мной. Уложив растения, она спускалась в воду и плыла за стеблями на соседнюю лавду. Вот только непонятно было, по какой надобности ондатра плавала за строительным материалом на другой остров, хотя рогоз в избытке рос и на том, где она строила хатку. Скорее всего, не хотела демаскировать свой будущий дом. Наблюдая за работой зверька, за его любопытным постоянством проплывать рядом с лодкой, можно было подумать, что это очень умная и даже хитрая ондатра и плавает она здесь для того, чтобы выпытать мои намерения. Ну и пускай выпытывает, если охота, а я вот возьму да переплыву на другое место. Поближе к ней.
Я вытащил якорь и, отталкиваясь шестом, поставил лодку так, что перегородил ондатре путь. Аккуратно сложив на круглое основание хатки очередную ношу, ондатра опустилась в воду и поплыла. Поплыла прямо на лодку, клином рассекая воду, пошевеливая вытянутой вперед усатой мордочкой. И вдруг остановилась, повисла на воде. Долго смотрела на меня черными бусинками глаз, как бы ожидая, когда я уступлю ей дорогу, а потом, вскинув зад, нырнула. Под водой ондатра стала желтая да какая-то плоская, словно приплюснутая, а бока — будто серебром оторочены. Это блестели бесчисленные пузырьки воздуха на шерстинках. Когда ондатра подплыла под лодку, я схватил сачок, запустил его с другого борта и поддел ее. Просто так, из любопытства. В лодке пленница начала метаться, как в западне, гневно стукала по мокрым доскам тяжелым голым хвостом и скалила острые выпуклые резцы. В руки взять ее я не решился и, вдоволь насмотревшись, тем же сачком высадил за борт. Зверек сразу же нырнул, подплыл под лавду и больше не показывался.
А в то время, пока ондатра находилась в моей лодке, с берега доносился ласковый голос тети Дуси.
— Матре-ена, Матре-ена, Матре-енушка...
«Козлуху, наверно, потеряла», — подумал я и вспомнил грязную бодливую козу с единственным кривым рогом и растрепанной бородой, забитой сухим репьем. Утром, когда я умывался, она столкнула меня с крылечка, а потом, когда я копал в навозной куче червей, боднула меня и опрокинула банку с червями. Противная, в общем, козлуха.
— Матре-ена, Матре-ена, — зазывно пела тетя Дуся.
Тетя Дуся — глуховатая старушка с больными ногами и черными от огородной работы руками. В ее доме я остановился, пользовался ее лодкой, ее покровительством и вообще всем, что требовалось отдыхающему. Ко мне, заводскому человеку, тетя Дуся относилась с радушием и особым доверием — посвящала в сокровенные воспоминания своей жизни, непримиримо ругала соседа-скрягу, у которого «воды не выпросишь», жаловалась на «прострелы» в ногах и подолгу с напускной строгостью рассказывала про блудливую козлуху Зорьку. Но в тот раз, когда тетя Дуся звала Матрену, я забыл, что козу звать Зорькой, и решил, что Матрена и есть та самая непутевая скотинка.
Я подгреб к берегу, поставил лодку на прикол. Тетя Дуся все еще звала Матрену, и я направился к ней пособить поискать.
— Не-е, милай, — отказалась бабка от моих услуг. — К тебе она вовсе не придет. Пуглива больно.
«Нечего себе, пуглива», — с неприязнью подумал я и невольно почесал то место, куда боднула козлуха.
— Какая же она пугливая? — говорю. — Ребята вон на что бойкие, и то ваш дом за версту обходят.
— Дак это ты про кого? Про Зорьку, что ли? Она, верно, такая... Вечор вон бобы у Настасьи объела... Ондатру я потеряла. Матреной звать. Ручная, эдакая, ровно белочка, морковку больно любит. Покричу — она и плывет. Выйдет на бережок — и ко мне. Смешно, эдак, с боку на бок переваливается. Прямо из рук, роднуша, грызет морковку... И куда она запропастилась? Али напужал кто? Матре-ена, Матре-ена, Матре-нушка...
У меня вспыхнули от стыда уши: это я напугал ондатру. Ту самую, что поймал сачком. Но откуда мне знать, что она ручная? Мало их плавает по озеру! Тетя Дуся ушла искать Матрену, а я сел на камень и приуныл. Нехорошо получалось. Пустяк вроде, а наделал заботы человеку.
Я не мог осмелиться сказать бабке, что во всем виноват я, ушел в дом, но и дома не сиделось. Взял веревку и отправился в лес за сучьями. И в лесу, где собирал сучья, слышал с берега обеспокоенный голос тети Дуси. Она стояла в огороде и звала Матрену.
Вернулся, бросил вязанку сучьев у врытой в землю каменки. Тетя Дуся ушла огородами по берегу залива к плавням.
Я попил из берестяного туеса холодного квасу, походил по двору, а потом поднялся в сенцы и лег на топчан. Лег — и куда-то повела меня лесная дорожка, все дальше, дальше в лес. Из-за елей выскочила на тропу козлуха с репьем в бороде и проблеяла: «Удрать думаешь? Не выйдет!» — и направила на меня длинный, как пика, рог. Я бросился в сторону и... больно ударился головой о край бочки.