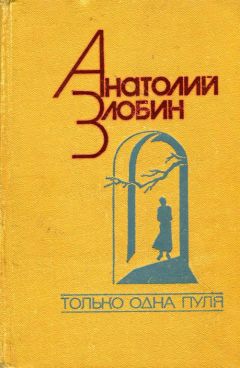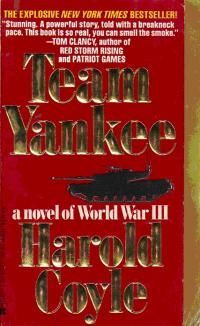— Мы пойдем на другое поле, — чистосердечно предупредил я.
— Хорошо, — твердо отвечала она, прижимая сумочку к груди. — Я знаю, мне будет нелегко. Но пусть. Я согласна.
Я увлек ее за собой. Летное поле скоро кончилось, пошла рожь, и во ржи тропинка, натоптанная до матового лоска.
Поле шло под уклон, ниспадая к небольшой деревушке, уютно пристроившейся на косогоре.
— Одну минуту, — сказала она, приостанавливаясь и доставая из сумочки книгу. — Я забыла прочесть. Я сейчас, я вас догоню…
Маргарита Александровна явно хитрила, не заботясь о возможности разоблачения. Сколько раз она уже читала эту надпись и опять не вытерпела.
Она торопливо глотала, раскрыв с первого касания книгу на титульном листе:
«Маргарите Александровне Пашковой — не ради давней памяти, а для новой надежды, ибо все возвращается на круги своя, а теперь я с хвостом. И. Сухарев. 27 апреля 1970 года».
Автор скромно отошел в сторонку, давая простор мыслям героини, но все равно светившиеся ее глаза говорили мне больше, я слышал мольбу ее глаз.
Неужто, неужто, думала она, стоя на тропинке и вздрагивая от теплоты почти навеки забытого ею чувства волнения, как же она сразу не сообразила, он же вдовец, недаром он всякий раз уклонялся в разговоре. Мысли ее лихорадочно спешили, она как бы сразу с ним говорила и сама с собой: зачем же вы не доверились до конца, неужто я не заслужила, но как это ужасно, ах, я опять не о том, он же сказал, он уже пережил, и он написал, что свободен, свободен, хоть и с хвостом, но, Володя, что же нам делать, и он понимает это, сам Володя и привел его ко мне, разве нас не трое было за столом, вот и сейчас он не обо мне думает, а о нем, о нем, он читает его письмо, я чувствую это точно, а он свободен и свободу он вверяет мне, неужто это правда, господи, если ты есть, сделай так, чтобы все, что говорилось и чувствовалось, было правдой, только правдой, одной только правдой, ты же знаешь, господи, чего хочу, совсем немного, хоть немножечко счастья, хоть самый малый кусочек, лишь бы не поддельного, а того, что бывает в сказках, ибо меньшего не хочу, хоть под самый конец, под занавес, но все-таки счастья, а не только памяти о нем, ну самую малость, молю тебя, если уж не кусочек, то кроху хотя бы, одну лишь кроху, ведь он хороший, он добрый, он сильный…
Рита аж всхлипнула от жаркого волнения, готовая пустить просветленную слезу, и мысли ее становились все более отважными и интимными, но тут она заметила меня — и просветленная слеза высохла, не успев скатиться по щеке.
— Это финальная тропинка? — воскликнула она, подбегая ко мне. — Как хорошо! Какой тут простор! Вы мой автор? Я сразу догадалась. Вы решили вывести меня на природу, чтобы прорваться сквозь замкнутость стен нашей крупнопанельной цивилизации? Как легко дышится, — щебетала она. — Всего один вопрос: что меня ждет? Он приедет? Когда он приедет? Ну хоть намеком скажите…
— Коль вы определили во мне автора, — отвечал я, — то во избежание всяческих недоразумений должен объявить, что не я диктую героям свою волю. Все совершается наоборот…
— Фи, какой вы строгий, — игриво говорила она, надеясь вымолить хоть малую поблажку на будущее, но я хранил верность законам избранного жанра.
— Я могу привести вас лишь в прошлое, — сказал я. — Что и сделал.
— Где же мы? — спросила она, растерянно глядя под ноги. — Куда ведет эта тропинка? И вообще — что она?
— Возможно, это народная тропа. Смотрите сами, куда она ведет.
Мы остановились перед братской могилой.
Во время войны Визендорф был основательно разрушен: он горел, содрогался под бомбами, пушки его кромсали. Теперь же деревушка Лонка-весь, что означало то же самое, отстроилась и разрослась. Мосты восстановлены, автострада подновилась. Старые окопы давно перепаханы, из них произрастают злаки. Фанерный обелиск на могиле Коркина и семи его товарищей, погибших в том же бою, заменен большим темно-серым камнем в коричневой шубе, и все имена приведены на том камне явственно, и Коркин, как и прежде, открывает тот горестный список.
Вырезано в сером камне: «Старший лейтенант В. П. Коркин, 5.07.1923—31.03.1945». Постойте, отчего же 31 марта? Всего один день жизни подарил ему расчетливый штабной писарь, видимо, заканчивался квартал и требовалось срочно закрыть отчетность. К сожалению, сам Владимир Коркин, лежащий под серым камнем, так и не узнал о нежданном писарском даре — как бы он распорядился им в случае удачи?
Маргарита Александровна застыла перед могилой, судорожно зажав рот ладонью.
(Серый камень ладно, без зазоров, врос в землю, сроднился с нею, лет сто, а то и двести простоит без капремонта, в наше скорое неверное время вправе ли мы рассчитывать на более длительное бессмертие?)
У братской могилы иногда происходят церемонии, как раз в такой день мы и попали сюда. От школы строем шагали ребята, предводительствуемые директором паном Костецким.
Запели горны. Возможно, следовало бы представить вдову погибшего героя, сколько было бы восторгов со стороны юных следопытов, поэтому мы благоразумно отошли поодаль, дабы не нарушать заведомого хода церемонии.
Не жестоко ли я поступил с нею, призвав сюда? Маргарита Александровна посмотрела на меня с немым укором.
— Здесь так красиво, — сказала она. — Это же мрачное место земли, никогда не думала, что тут могут быть свет и радость.
И земля отвечала глухо:
— За это он упал.
— Но как же Игорь? — суетливо спохватилась Маргарита Вольская, уверовав в авторские чудеса. — Что я передам Валентине?
Увы, автор не всесилен. Могила Игоря Пашкова не сохранилась, возможно, ее вообще не было. Лишь 2 апреля обезглавленное тело Пашкова было перевезено в Анатомический институт, где оно пролежало еще несколько дней. Тело хотели сжечь — не горела печь, уже отключенная от газового снабжения. Хотели вывезти — не оказалось машины. Где же оно? Не до него было тогда берлинцам… Так что официальная бумага с гербовой печатью сообщила истинную правду: И. А. Пашков пропал без вести, не оставив после себя хотя бы могильного адреса.
И вспыхнул вечный огонь памяти.
А земля притягивала к себе, как легко зарыться в нее, переждать в норе. Но они поднимались и бежали вперед, и падали сраженными, чтобы не нарушалась красота этой земли.
Выстрел — вскрик — молчание. И падают, падают за эту землю. На всех фронтах второй мировой от Волги до Ла-Манша каждые три секунды войне приносилась ее очередная жертва. Владимир Коркин заметно ошибся, ибо не мог он знать того, что знаем мы сейчас.
Много лет прошло. Заросли окопы, засыпаны рвы. Танки и пушки угомонились на пьедесталах.
Медные люди вознеслись над землею.
Гранитные люди преклонились к земле.
Бронзовые люди воспрянули из земли.
Поднялись обелиски, кресты, созвездия, мемориалы, монументы, скорбные и гордые, шикарные и кричащие, незаметные и безгласные, великие и заурядные, — но все из тоски и боли, поднялись по всей Европе десятками тысяч, их числа не счесть, ибо поднялись они не для счета, а для того, чтобы преградить дорогу пуле.
Звуки горна отдалились. Мы снова продвигались вперед по тропинке, вьющейся во ржи.
— Почему она так круто вьется? — спросила Маргарита Александровна, недоуменно озираясь, и тут ее осенило: — Это что? Его тропинка?
Я молча кивнул.
— Тут он бежал? Как раз по этой тропе? — настаивала она, ибо ей тоже было необходимо добраться до истоков.
— Тогда тропы не было, — осторожно поправил я, не решаясь вмешиваться в эволюцию героини с большей степенью настойчивости.
— Я вас поняла! — воскликнула она, сжимая правой рукой свою шею. — Теперь я знаю, это здесь! Она вьется вслед его бегу, вот его борозда… Пуля! Одна пуля! Только одна пуля! — Маргарита Александровна замерла в ожидании, и облик ее начал постепенно редеть, истончаться, чтобы обернуться словом, строкой, абзацем, прозвучать монологом, жестом, обозначиться поступком, голосом, мольбой. Я сам впервые наблюдал столь вихревые метаморфозы и потому тревожился за героиню. Но все протекало согласно моменту. Сначала клятвенно вскинулась вверх правая рука, застыв восклицательным знаком после «я». А левая рука в то же время пружинисто подогнулась в дужку, изобразив знак вопроса. О чем она вопрошает, с трудом вмещаясь между двумя знаками препинания? Ее оставалось все меньше, теребящие пространство пальцы высекли нерасторжимые завитки и палочки, по телу проскальзывали исходные знаки, и вот просветилось насквозь сердце, продолжая пульсировать, и от него в ритме пульса, толчками побежали во все стороны звуковые круги и дорожки.
— …одна… дна… на… а-а-а… — голос уносился все дальше, на одной скорбной ноте, не угасая и не кончаясь.
Влажная спазма волнения сжала горло мое. Уход героини был кроток и бескорыстен. Не себя выкликала она с последней строки.