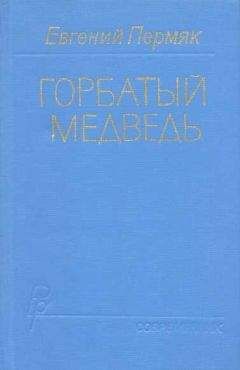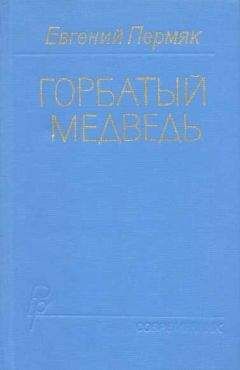Дочери в очень длинных юбках, какие носят омутихинские девчонки, но сшитых, как и кофты, из хорошей материи, весело запрыгали.
— Тять, а как женишка звать?
— Звать его так, что и не выговоришь. Говорит, что крещен так, и в святцах будто бы его имя есть. Мавридей!
— Мое имя не Мавридей, а Маврикий!
— Значит, Мавруша, — сказала старшая. — На берегу тоже такое имя есть у попова сына.
— Вон как оно… Так бы и надо сразу, Мавруша. Тогда бы и опасаться нечего, что нехристь.
— Пойдем, Мавруша, руки мыть, — предложила младшая. — Я тебе чистый рукотертик принесу. Весь петушками вышит да уточками расшит. Пойдем.
Она подвела его к большой, тоже, как и все в этом доме, ухоженной лохани и сама стала лить ему на руки из медного луженного внутри ковша.
— Чище мой. Мыло хорошее. Духовитое. Слышь, как мятой отдает.
Было видно, что эти по внешнему виду старомодные девушки очень свободно чувствуют себя. Кузьма Севастьянович действительно не стеснял своих дочерей, которые очень любили его. Сейчас они были так благодарны ему за то, что, вернувшись из города, он привез им на этот раз хороший живой подарок. Не шаль, не ботинки со скрипом, не алое сукно на выездные шубейки и не расписные ларцы… Это все есть. Есть даже швейная машина, у которой ногами можно вертеть колесо и шить. Это все ничто. Мертвые дары. А это живой человек. Парень в доме. И кудри из кольца в кольцо, а лицо… Цесаревич Алексей, только постарше.
Кто мог знать, что здесь, в занесенной снегом равнине, он найдет дом, где все будут рады ему и ему покажется, будто когда-то жил в этом доме. Может быть, он жил в нем, читая какую-то книгу о старине.
Настенька, так звали четырнадцатилетнюю младшую дочь, после умывания принялась расчесывать гостя и, расчесав, сообщила матери:
— Настоящие. Не щипцовые. После прочеса еще пуще обратно свиваются.
Старшая дочь, Анфиса, — ей едва исполнилось девятнадцать — смотрела на тезку поповского сына, пугаясь его лица. Он походил не только на цесаревича со старой календарной стенки, но и на Ивана-царевича, который очень часто в девических снах так счастливо умыкал ее на сером волке. Он походил и на белого ангела, прилетавшего к ней в предутренней дремоте и обнимавшего ее, спящую, своими большими крыльями с такими ласковыми перьями и таким щекотным пухом. Он походил почти на всех блазнившихся, но не встретившихся и не походил ни на кого, был самим собой — царевичем наяву.
Маврикий тоже был немало поражен, глядя на безупречно выписанные лица дочерей Кузьмы Севастьяновича. Они — бровь в бровь, черта в черту, только одно лицо едва-едва зацветает, а второе неудержимо цветет. Слепит. Невозможно смотреть, а отвернуться еще невозможнее.
III
К ужину пришли четыре бородатых, похожих друг на друга мужика, отличающихся только цветом волос.
Помолившись на образа, поздоровались. Сели за стол. Кузьма начал так:
— Стало быть, в Татарск вернулась обнаковенная Советская власть. Какая и была. С кумынистами, комиссарами и еще с «чикой».
— А кто эта «чика»? — спросил сивобородый мужик.
— «Чика» — это милиция, но построже. Может и «чикнуть», ежели что. Но с умом. Не как те. Беляки и те «чику» не хают, а даже благодарят за милосердствие. Пленных в Татарске к стенке не ставят. Дают им оклематься, очухаться. И офицеров не колют, шомполами не дерут, не бьют. Ну, а карателей, сами понимаете… — Говоря так, он, вспомнив о чем-то распорядился: — Нашему спрятанному беглецу завтра прямо надо сказать, что иди, мол, на все четыре ветра. Трогать, мол, не трогаем, но отвечать не желаем.
Доложив о главном, Кузьма Севастьянович перешел на второстепенное: о деньгах, о торговле, о поклоне матушке Советской власти обозом возов на десять, на двенадцать, груженных чебаком и мелким окунем.
— И с флагом доставить на станцию. Кумача купил достаточно. Счетный писарь напишет, какие надо слова. Так ли я говорю?
— Напишу, — сказал Маврикий.
— А кому рыбу? — спросил самый смирный, с самой короткой бородой молчавший до этого рыбак. — Не просто же свалим ее начальнику станции?
— Зачем просто? Вагон потребуем. А на вагоне флаг. А на флаге: город Москва, товарищу Ленину от красных сибирских рыбаков.
Всем это очень понравилось. Решили выпить по стаканчику за башлыка.
— Умственный ты у нас, Кузьма, — сказал самый старый. — Не кому-то и не куда-то, а ему самому. Пущай знает, что мы не с пустыми руками красных встречаем. Пожалуй, и больше можно чебака дать. Ежели вагон брать, так надо его засыпать под крышу.
— Можно и под крышу. А сверху щук да больших окуней понакидать.
— А не разворуют, паря, железнодорожники, язь их переязь…
— А это не наша печаль. Квиток с печаткой получен. Пуды прописаны. Кому и куда, в публикате сказано — и конец.
Переговорить за один вечер всего не удалось. Но все же выяснили, что какая она ни на есть Советская власть, лучше ее пока ничего придумать нельзя. Пущай властвуют. Главное, свои, а не пришлые из-за морей. И золото не выпустили. Тоже молодцы-храбрецы. Не дали Колчаку золотую казну на Дальний Восток угнать. Без золотишка-то худо бы Ленину пришлось. А теперь что хочешь, то и купит. А колчаковских долгов платить не будет. Пущай сам платит, если будет чем.
Когда время пришло ложиться спать, хозяйка Алексеевна ласково сказала Маврикию:
— Ты, девичий сон, бабья бессонница, в светлом прирубе у нас будешь жить. Там я тебе лебяжью перину взбила. Только нонича здесь в закутке ночуй. Сам знаешь, тиф по вагонам, по станциям мелкой козявкой ползает. Кузьму тоже в горнице спать не кладу. Тоже пущай завтра в бане выпарится, выжарится, а потом милости просим куда хошь. Не серчай уж…
— Да что вы, Степанида Алексеевна, мне без того стыдно, что вы меня… Как будто я заслужил это все…
— Заслужишь. Мой Кузьма цену хорошей рыбе знает, — бросила мимоходом Степанида Алексеевна. — И ты знай себе цену. Услужливых любят, да губят. Податливых уважают, да под себя подминают. Спи давай… А ежли на полный месяц глянуть вздумаешь, так иди, я тебе покажу ходы-выходы, закрышки-запоры… Да не рдей ты, не рдей до ушей. Житейское же это все. А я тебе в матери гожусь, а в тещи-то — уж вовсе… Пошли…
IV
Утром Анфиса разбудила счетного писаря и таким же, как у матери, переливчатым голосом сказала:
— Что это, правочки, творится-делается. Солнце-то уж месяц гасит, зоренька-заря снег красит, — явно повторяла она слышанные от бабки или от матери слова, — а он спит себе во всю головушку… Кого ты, Маврушок, боишься там во сне потерять? Никуда она не денется. Завтра опять приснится.
Маврикий проснулся. Он так был рад, что увидел те же стены и ту же занавеску. Значит, все, что было вчера, было не во сне.
— Я сейчас, Фиса… Я раз-два, по-солдатски.
И верно, Фисе ждать не пришлось. Он тут же вышел из закутка.
— Здравствуй, — сказал он и протянул руку.
— Да ты что, — прикрикнула ласково-ласково и притопнула весело-развесело Фиса, — как я тебе непропаренному, непрожаренному могу руку подать. Оболокайся давай, пока в бане каменка не остыла. Мать отца после дороги уж изобиходила, теперь я тебя, гостенек, изобихаживать поведу. Зря, что ли, чуть не два беремя хороших березовых дров истопила.
Щебеча так, будто наставляя, как младшего брата, Фиса повела его по снежной тропе в конец огорода, где виднелась маленькая банька без трубы. Маврикий видал черные бани за Камой, но не мылся в них. У этой бани не как у закамских — был предбанник, но не было ни одного окна. И он удивился этому вслух, переступив порог.
— А зачем в бане окошки? Не чай пить ведь тут и не красоваться, — так же наставительно, с еле слышимой смешинкой говорила Фиса. — Мурейка прорублена в стене — и хватит, чтобы себя с другим человеком не перепутать, чужую спину вместо своей не выпарить. Да не стой ты, не выстужай жар. Давай я развешу твой тиф над каменкой. И ахнуть не успеет, как дух из него вон. Да раздевайся же ты, из-за угла мешком пуганный… Так уж и быть, я мурейку тряпицей заткну.
В бане стало совсем темно. Маврикий разделся и стал на ощупь развешивать снятое над каменкой. Фиса вернулась из предбанника и сказала как бы между прочим:
— Пожалуй, и я тем же паром выпарюсь. Полок у нас большой. Пятерым бывало не тесно.
Как-то не сразу нашел Маврик необходимые слова, а найдя, не сказал их. Наверно, так полагается. В Дымовке тоже моются в банях семьями. И в этом никто ничего не видит зазорного.
— Присядь, — попросила Фиса, — я наподдам.
Было слышно, как она плеснула на каменку. Шипящий кисловатый квасной пар спустился и на пол.
— Не холодно ли тебе, красна девица, — заговорила она голосом матери, — а то поддам еще ковш.
— Жарко мне, Фиса.