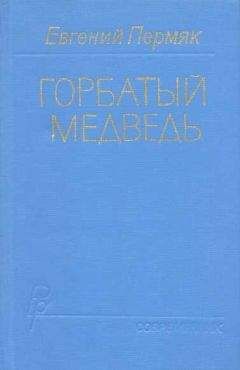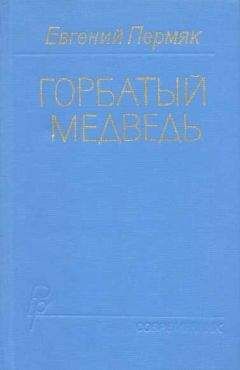Обидно Настеньке, если в самом деле старшая сестра перехватила писарька. Ну, ничего-ничего. Придет случай — ослепнет. Есть уже чем слепить, когда ей пятнадцатый идет.
Настя смотрелась в большое настенное зеркало, изгибала длинную белую шею, и в зеркале охорашивалась молоденькая белая лебедушка.
Не уйдешь, золотой селезень. Не разглядел ты еще Настеньки… А как разглядишь ее и… И обескрылеешь на всю жизнь.
VII
Самые длинные декабрьские ночи укоротились святками. От двадцать пятого декабря — начала рождественских праздников — и до шестого января — крещения господня — две недели длятся зимние праздники. Праздновали кто как умел.
Смолокуровы не оставляли и дня пустым. То гости, то сами в гости. То столы для пожилых, то пляска для молодых, то сумерничанья с гаданьями, с колдовством, с приводом слепой сказительницы страшных былей, озорных небылей. А Новый год? Как можно не встретить его в кругу своих и не отведать тридцать три кушанья, пока он через снега не пройдет из города Читы через Ново-Николаевск и далее мимо Татарска. И как можно не испить хорошего, чистого первача, привезенного издалека толковыми винокурами. В стопке горит, в брюхе гаснет.
Рождественская елка не принята в степной деревне. А у попа отца Георгия елка каждый год. Правда, елкой здесь бывает береза, ветви которой обматываются ватой. Какая разница. Гуще навесь всякой всячины да разных разностей, и такая красота получается, что и не видать, какое дерево украшено.
Когда Маврикий вспомнил о своих елках — немедленно погнали лошадь в урман. За Татарск.
— Зачем нам березовые елки, — сказал Кузьма Смолокуров, — когда мы можем еловую ель изукрасить.
Настя, да и Анфиса прыгали до потолка.
Не хотелось задумываться деловому счетному писарю о том, как будет дальше. Живут же люди на Щучьем острове, и счастье не минует их. Почему же через три года, когда ему исполнится двадцать, когда у него будет все необходимое и, может быть, свой дом, почему ему не объявить тогда Фису своей женой? Лучше ее невозможно не только встретить, но и придумать в каком-нибудь стихотворном романе. В сказках нет фей волшебное ее. Нет и добрее ее. И он не верит, не знает и не хочет знать, что у нее был какой-то Проша. Как он мог быть, коли в ней не осталось и следа. Значит, его не было, хотя он и был.
Маврикий искал оправдания Фисе. Он всячески хотел смягчить то, что было. И смягчал. Находил множество доводов. Ветер, например, тоже целовал ее. И вода касалась ее, ну так что? Нельзя же сердиться на ветер, на воду или, того смешнее, на рубашку, которую она надевала. Стыдно даже думать об этом.
В эти дни чаще выдаются часы, когда Фиса и он остаются совершенно одни. Сегодня отец, мать и Настенька ушли к старшему из братьев Смолокуровых. Маврикию нужно было посидеть с подсчетами, а дом как-никак нельзя бросить на чужого человека. И Фиса осталась.
Больше всего Маврикий любил говорить ей о своей любви. Он делал это уже много раз, но, кажется, никогда не повторялся. Фиса удивлялась, откуда в нем столько слов. Вот и сегодня, обняв ее, он улетает с ней в жаркую страну, где не опадают листья деревьев и всегда что-нибудь да цветет. И цветы так прекрасны, что на свете еще не родилось такого сказочника, который мог бы пересказать их красоту.
— Но если бы, Фиса, и был такой… И если бы он один только раз увидел тебя, для него бы увяли все цветы земли.
— Нет, мой царевич, нет, я лесная поганка-обманка, сонная трава, болотная осока, и я так боюсь, моя лялечка, что ты очнешься-проснешься-разбудишься и расколдуешься, — шептала она Маврикию, заливаясь слезами.
Маврикию очень хотелось сказать ей, как нелепа ее боязнь, как невозможна его разлука с нею, как свято для него все, что составляет ее… И на язык уже пришли очень хорошие слова, но ему хотелось слушать и ее. У нее тоже были, наверно, наследственные, какие-то совсем другие, незнакомые дорогие кондовые переливы слов и узоры из них.
Невозможно было представить, чтобы в Лере и даже в Сонечке было столько света. Фиса излучала его всем своим существом. Она хотя и боялась его «пробуждения» и «расколдовывания», все же знала, что сейчас, в этот вечер, он молится на нее, была щедра на ласки, не жалея своих чар, не стыдясь первородности любви, которую познавала только теперь, любя его. И каждый взгляд, поворот головы, изгиб стана, движение рук были для него, и только для него.
Анфиса давно знала силу своей пляски, сводившей с ума и молодых и пожилых, засылавших к ней сватов на остров. И сегодня, в укороченной матерью юбке, в тонких, выменянных на рыбу чулках и в узконосеньких башмачках, она принялась выводить плясовой зачин так, что, кажется, заговорила стоявшая на полке, молчащая гармонь Кузьмы Севастьяновича, и запел чей-то голос:
Звезды сгасли, меркнет солнце,
Только ты мой свет в оконце.
Фисе немало перешло от матери. Мать работала когда-то на острове поденщицей и как-то проплясала «Подгорную» при молодом тогда еще Кузьме Смолокурове, помолвленном на дочери бакалейщика. Смолокуров едва не сошел с ума. Не потребовалось и второго танца, как свадьба-«самокрутка» назвала поденщицу-бесприданницу Стешку Степанидой Алексеевной Смолокуровой. Она тогда была в тех же годах, что теперь дочь.
«Из всех огней самый жаркий плясовой огонь», — любила повторять мать дочери. И дочь, горя теперь этим огнем, опять благодарила мать, что та наградила ее умением гореть и зажигать других.
За окном трещал трескучий сорокапятиградусный мороз. Вокруг озябшего месяца два кольца и проступает третье. А здесь, в Фисиной, хорошо натопленной горнице, жаркая страна, буйная трава, пахучие цветы, и все оттого, что Фиса так любит его. И он, уплывая куда-то по тихим и теплым волнам, так хотел крикнуть:
— Тетечка Катечка, ты не можешь не полюбить ее.
Маврикий купался в им же придуманной сказке. Это умение придумывать себе счастье и верить в него и на этот раз скрашивало одиночество и позволяло видеть светлой непроглядную тьму.
I
После разгрома Колчака и Деникина наступило хотя и зыбкое, но все же мирное время. Появилась возможность силы и средства, ранее пожиравшиеся фронтами, перебросить на восстановление разрушенного хозяйства, и в первую очередь транспорта.
Григорий Савельевич Киршбаум, оставаясь в тройке по управлению Мильвенским государственным заводом, взял на себя труднейшую для того времени обязанность, сокращенно называемую заготсбыт. Это значило заготовлять то, чего почти не было: металл и топливо. Это значило также сбывать то, в чем теперь нуждались многие, но платить могли они только стремительно падающими деньгами, исчисляющимися теперь не рублями, не сотнями рублей и не тысячами, а миллионами. Миллионы рублей стоили сапоги, рубашка, брусок мыла… Поэтому коммерческому директору завода Киршбауму приходилось выискивать тысячи способов, чтобы, не нарушая государственные законы, продавать изделия и покупать металл — главное сырье завода.
Любой завод или паровозное депо нуждались буквально во всем, а безработная на три четверти рабочих Мильва готова была предложить любые, никогда не производившиеся на заводе изделия. Котлы для паровозов — пожалуйста. Костыли для железнодорожных путей—сделайте одолжение.
Мы вам на сто тысяч в довоенных ценах изделий, а вы на эту же сумму нам подсоберете и доставите металла. Вам хорошо, и нам неплохо.
Операции подобного рода позволяли хоть как-то дышать многим заводам, но не изменяли положения рабочих, получавших ничего не стоящие денежные знаки и очень скудные пайки. Неутомимый Григорий Савельевич, со времен подполья считавший, что не может быть положения, из которого нельзя найти выхода, добился разрешения на организованную заготовку зерна и мяса с оплатой за таковые изделиями, необходимыми для деревни.
Активу завода Киршбаум докладывал так:
— Завод не раз пробовал помогать деревне нашей губернии. И всегда это ни к чему не приводило, потому что деревне были нужны только лемехи для сох да зубья для деревянных борон. И зубья и лемехи требовали много металла, а стоили сущие гроши. Производство серпов и кос нам наладить не удалось, да и зачем отбивать хлеб у заводов, наторевших на этих изделиях.
Тут Киршбаум показал несколько незнакомых небольших металлических изделий.
— Вот в этой штукенции нет и фунта металла, а платят за нее пуд зерна. А вот эта шестереночка, отлитая из второсортного металла, весит два фунта, а стоит пять пудов первосортного зерна.
Слушающие зашумели, перебивая друг друга:
— Где это?
— Не может быть!
— В себе ли ты, Григорий Савельевич?
— Да мы этой ерунды несчетно можем дать. И за полцены. Зачем пять пудов, когда и два достаточно.