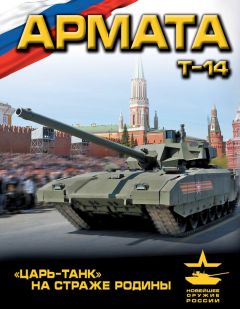Она выбежала из глухой, давившей ее темноты под небо, с которого жидко светила луна.
На станцию!
Утром, как всегда, пришли строители и сразу же заметили придавленные куском доски карточки.
Никакого сомнения быть не могло: с Ниной что-то случилось — карточки просто так не оставляют. На всякий случай, правда, толкнулись к тете Маше, к знакомым Нины, в больницу — не попала ли туда? Нины не было нигде.
В этот день бригаде не работалось, все валилось из рук. Хмурый дядя Митя нет-нет да бросал внимательный взгляд то на одного, то на другого, пытаясь понять, нет ли в исчезновении Нины их вины. Девочки хлюпали носами, Оля-солдат украдкой вытирала слезы.
Латохин тоже был мрачен. Невольно вспомнилось, как он тогда обидел Нину. Правда, извинился потом… Нина вроде простила. Но простить можно все, а вот забыть… Случилось еще что-нибудь?.. Нины нигде нет. Карточки остались… Неужели и правда покончила с собой? Но где? Может, на кладбище?! Помнится, он читал, что женщина, любившая Сергея Есенина, застрелилась на его могиле ночью…
Ничего никому не сказав, Латохин в обеденный перерыв отправился на кладбище, хотя был почти уверен, что Нины там нет. Пошел убедиться именно в этом — нет…
Кладбище на бывшей окраине города давно уже вышло из каменной ограды, наползало на картофельное поле. Подходя, Латохин увидел женщину, склонившуюся над землей.
«Что она там делает?»
Он приблизился. Крышкой от чемодана — чемодан лежал рядом — она выгребала из ямки землю. «Роет могилу?!» В двух шагах от нее, на меже, лежало что-то продолговатое, завернутое в широкое полотенце. «Ребенок! Мертвый!» — мелькнула у Латохина страшная догадка.
Никакого внимания на Латохина женщина не обратила. Она тяжело дышала и беззвучно плакала, смахивая слезы испачканной в земле рукой.
— Дайте помогу, — сказал Латохин.
Женщина незрячими глазами взглянула на незнакомца и молча продолжала свое занятие.
Латохин отобрал у нее крышку и попробовал копать. Зряшная работа! Верхний мягкий слой земли кончился…
— Лопата нужна! — сказал он. — Погодите, я сейчас вернусь. — И, бросив крышку, побежал обратно.
Вернулся он с дядей Митей, в руках у обоих — лопаты.
Женщина так же упорно и безуспешно продолжала свое занятие.
Дядя Митя внимательно посмотрел на женщину, на завернутого в полотенце ребенка, спросил:
— Сынок?.. — Он повернул голову в сторону мертвого ребенка.
— Дочка… Валечка… — с трудом проговорила женщина.
— Ну погоди уж… Посиди. Мы сами. — Он отвел женщину в сторону.
Вдвоем с Латохиным они быстро вырыли могилку, но, когда дядя Митя взял ребенка, чтобы опустить его туда, женщина вдруг встрепенулась, запричитала в голос:
— Валечка моя!.. Валечка!.. — и, схватив девочку, прижала к груди.
— Ну, будет, будет тебе. Что поделаешь — кругом беда. — Дядя Митя погладил женщину по голове и мягко, но решительно взял у нее девочку и осторожно опустил на дно могилки.
Несколько мгновений они постояли молча. Потом дядя Митя тронул женщину за плечо:
— Пора!
Женщина нагнулась, взяла горсть земли и, закрыв глаза, кинула ее вниз. Бросили по горсти и Латохин с дядей Митей.
Когда над могилой вырос маленький холмик, они наломали хвои и обложили могилку зелеными ветвями. Потом Латохин взял женщину под руку:
— Пойдем к нам…
Подавленная горем, женщина безучастно дала себя увести.
Когда они проходили неподалеку от сарайчика, где жил дядя Митя, тот сказал Латохину:
— Обождите, я сейчас…
Вернулся он с авоськой, в которой виднелась бутылка и что-то завернутое в газету.
Женщина отрешенно сидела в углу на досках, ничего и никого не видя. Никто не подходил к ней, не докучал расспросами, утешениями. Понимали: в таком горе не утешишь, пусть немножко посидит одна, отойдет. Все работали, теперь — даже с каким-то ожесточением. Ну и денек сегодня!
Когда кончился рабочий день, дядя Митя поставил на самодельный стол бутылку с мутной жидкостью, положил на газету несколько вареных «в мундирах» картофелин, порезал на дольки два соленых огурца. Девушки выложили на стол кто кусок хлеба, кто сахару. У Оли-солдата оказалась даже большая луковица.
Дядя Митя подошел к женщине и повел ее к столу:
— Пойдемте… Помянуть девочку надо…
Женщина сидела, все еще не понимая, где она, как здесь очутилась и кто они, эти совсем незнакомые ей, вроде бы чужие и такие добрые люди.
Только выпив несколько глотков водки, она наконец заговорила, рассказала о себе. Сама из Людинова. Вторую неделю она шла домой, кормясь нещедрым подаянием. Всю дорогу несла Валечку, и были ее ручки, которыми она обхватила шею матери, горячими-горячими, а уж у самого Дебрянска стали холодеть и сделались совсем холодными… Вот теперь придет домой, если есть еще у нее дом, а Валечки — нет…
…О Нине вечером не говорили, хотя помнили о ней все.
2
Вокзал в довоенном Дебрянске был небольшим, но красивым, уютным и основательным. В буфете — огромная пальма, всегда чай, вина, коньяки. В зале ожидания — прочные дубовые скамьи-диваны, на спинках которых вырезаны — на века — четыре буквы: РОЖД. Только маленькие дети не знали, что означают эти буквы, и им объясняли: Риго-Орловская железная дорога. О ней говорили как о чем-то величественном, знаменательном, к чему, на радость и гордость жителей, имеет отношение и их маленький Дебрянск. «Риго-Орловская железная дорога!»
А перрон!
Жителю столицы ни за что не понять, что значил он для маленького городка! К приходу вечернего поезда каждый вечер на перроне собирались любители, как говорится, на людей посмотреть и себя показать. Одетые в самые лучшие платья и костюмы, десять — пятнадцать пар торжественно прохаживались по ровному полотну перрона, где до недавнего времени висели огромные серьги керосинокалильных фонарей. В ярко освещенном окне виден был телеграфист Андрей Павлович Козловский. Он стучал на аппарате! Весь мир был под его рукой…
Но вот выходил дежурный в красной фуражке…
Торжественные минуты!
Звякал колокол, шум поезда приближался, с грохотом проносился масляный паровоз, мелькали и останавливались вагоны. На перрон, где становилось еще светлее, высыпали пассажиры: одни, чтобы зайти в ресторан, другие размять ноги.
И дебрянские модницы внимательно изучали проезжих: как одеты… какие прически… на кого больше обратят внимание…
Было что-то патриархальное в этих вечерних гуляньях по хорошо освещенному перрону!..
До революции все города, даже совсем маленькие, выпускали открытки с видами своих достопримечательностей. Среди дебрянских открыток вокзал всегда был на одном из первых мест. Большая Дворянская улица… Собор… Вокзал…
Сейчас он лежал высокой грудой камня, из которой торчали во все стороны погнутые железные прутья. В первое время устроители землянок попробовали было добывать здесь кирпич, но ушли ни с чем. От мощного взрыва толстенные стены не распались на кирпичи, а рухнули огромными, сцементированными глыбами. Из этих глыб-монолитов, как ни били их лопатами и топорами, нельзя было высечь ни одной кирпичины. Лишь тупился, портился и без того дефицитный инструмент.
Пожарный сарайчик справа каким-то образом уцелел. В нем сейчас и оборудовали вокзал. Раз в сутки — поезд в одну сторону, раз — в другую. И бессчетное количество воинских эшелонов, товарняка…
В сарайчике пахло овчинами и погребом — деревенские бабы в полушубках везли картошку: кто своим в город — подкормить, кто на рынок — продать или поменять. Хлеб и картошка — самая ходовая меновая ценность, единицы намерения. Ботинки — мешок или два картошки… Рубашка — полмешка… Буханка хлеба — сто рублей, за две, если повезет, можно выменять штаны… Но для этого надо ехать в областной город.
Возвращались заплутавшиеся на дорогах войны, чуть было не оказавшиеся в неволе… Или те, кто потерял кров, имущество, переезжали к родственникам…
Сергей Латохин то сидел на скамейке в «зале», то выходил на площадь, где когда-то ожидали пассажиров извозчики.
В приезд Леночки он верил и не верил, боялся думать о том, что через какие-то минуты обнимет ее: подумает — и вдруг спугнет этим и без того призрачное счастье.
После длительного ожидания он наконец получил от Леночки сначала одно, потом другое письмо. В первом она писала, что ранена и поправляется, во втором, что приедет. Выходит, не зря он волновался: случилось-таки! Солдатский нюх его не подвел. Но что значит «ранена»? Пишет, что теперь все хорошо, но как понимать это «хорошо»? Оба письма размашисто набросаны карандашом прежним круглым почерком: руки или рука, выходит, в целости и сохранности… «А ноги?.. — подумал Латохин. — Лицо?..»
Как это ни существенно, главным было другое: Леночка едет в Дебрянск! Фразу о приезде Латохин прочел несколько раз: нет ли ошибки? В самом деле приедет?! В Дебрянск?! Убедившись, что все действительно так, Латохин забеспокоился: где Леночка будет жить? На чем спать? Удастся ли раздобыть хотя бы соломенный матрас?.. Он мог бы отдать ей свой топчан, но захочет ли пустить еще одного человека в сарайчик Аня Ситникова?