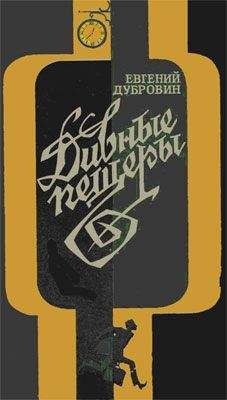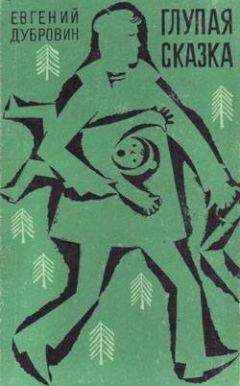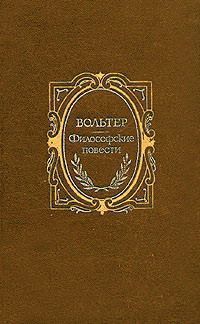Это сделал убийца. Он заманил Токарева в глубь катакомб белой тряпкой, вымотал, запугал, подвел к колодцу… Потом зажег свечу над останками человека, который, может быть, пролежал здесь не одну сотню лет… Убийца рассчитал точно. Леонид Георгиевич должен испугаться, отпрянуть, кинуться со всех ног прочь и угодить прямо в колодец. Вот какой был замысел… Убийца не учел только одного – инстинкта Жизни: всегда и всюду остерегаться Смерти.
Ноги делали свое дело, какое они привыкли делать на протяжении миллионов лет – спасали жизнь от смерти, и сознание тут же вычеркнуло из мозга информацию о дыре, чтобы не мешать ногам делать свое дело. А когда опасность миновала, тело напомнило мозгу о ней. Потому что опасность может повториться, и лучше, если сознание и инстинкт будут действовать сообща. Так надежнее. Так подсказывал длинный, длинный эволюционный опыт.
Вот почему Токарев вспомнил о ловушке убийцы.
Токарев нащупал выступ у стены и присел на него.
Значит, убийца может вернуться… Вряд ли он рискнет напасть открыто… Он мог бы это сделать раньше… Очевидно, убийца не хочет оставлять следов насильственной смерти на теле жертвы… Пусть будет все естественно, просто заблудился человек и упал в колодец… И совесть будет чиста. Разве это убийство, если человек сам свалился в колодец? Это просто несчастный случай…
Но убийца не отступился от намеченного. Он придумает что-нибудь еще… Надо быть постоянно начеку. Леонид Георгиевич стал настороженно вслушиваться в темноту, но никаких звуков не было. Ни звуков, ни движения воздуха, ни пятнышка света…
Так сидел Токарев, напрягая зрение и слух долго, очень долго… Потом его бдительность притупилась, и Леонид Георгиевич впал в забытье… Ему даже захотелось, чтобы все это быстрее кончилось, чтобы скорее пришел убийца. Прекратится это напряженное ожидание, он увидит наконец человеческое лицо, пусть даже это будет лицо убийцы. Может быть, он узнает, зачем его заманили в катакомбы. Это связано с заводом? Токарев кому-то мешал? Или он просто жертва маньяка?
А вдруг придут спасатели?.. И он снова увидит солнечный свет, услышит шорохи летнего дня… Как это было прекрасно и как давно, очень давно, может, не с ним, а в чьей-то другой жизни… Он не ценил, не наслаждался по-настоящему ни солнечным светом, ни шорохами… «Судьба, сделай так, чтобы пришли спасатели… – шептал Токарев холодными, непослушными губами… – Я стану совсем другим…»
Но пришел Старик. Он подошел совсем неслышно, а может быть, Леонид Георгиевич задремал и пропустил его шаги. Токарев очнулся от легкого дуновения ветерка. Он открыл глаза и увидел возле себя лицо очень старого человека в белом балахоне, державшего в руке толстую оплывшую свечу. Тень от наброшенного на голову балахона скрывала лоб и глаза человека. Были видны только серые, пепельные губы, длинный жилистый нос и седая узкая борода.
– Я Старик, – сказал человек. – Ты звал меня – вот я и пришел. Принес тебе пиастры.
– Мне не нужны пиастры, – прошептал Токарев.
– Но ты ведь сам просил.
– Я шутил…
– Что же тебе надо? – спросил Старик.
– Я хочу жить, – едва заметно шевельнул губами Леонид Георгиевич.
– Зачем?
– Просто жить… Я не знаю зачем…
Старик сел на землю и поставил перед собой свечу. Глаза и лоб его по-прежнему прятались в тени.
– Моя жизнь часто приносила людям страдания. Умер Золотарев, плачет гробовщик Кеша…
– Они сами виноваты. Почему они жили нечестно? Ты шел по следу только нечестных людей. Ты поступал правильно. И они заслужили, чтобы ты шел по их следу.
– Правильно?
– Да.
– Но гробовщик Кеша… Люди во дворе… Они ненавидели меня. В моих делах они видели только зло. Да и я не знаю, было ли в них добро.
– Люди во дворе не всегда правы. Ты поступал согласно своей совести, а это самое главное. Так было всегда. И так будет. Это закон жизни честных людей.
Старик замолчал. Токарев лежал у его ног, тяжело, хрипло дыша.
– Но мой сын… Я даже не знаю, какой он… Я всегда думал только о работе…
– Сын – твое продолжение. Никакая работа не оправдает тебя, если ты не продолжил себя в сыне. Никакая.
– Дай мне жизнь… – Леонид Георгиевич сделал попытку подняться, но руки, на которые он оперся, не держали, и Токарев тяжело упал на камни.
Старик покачал головой.
– Я не вправе распоряжаться ничьей жизнью и смертью.
– Кто же ты тогда… Зачем здесь?
– Никто… Просто хожу, слушаю…
– Ты все знаешь?
– Я мучаюсь…
– Так ты… Я начинаю догадываться…
Старик ничего не ответил. Он вдруг отбросил со лба капюшон, и на Леонида Георгиевича глянули усталые, выцветшие глаза с расширенными зрачками. Где-то он уже видел эти глаза и этот лоб с залысинами и сеточкой морщин.
Старик потянулся к свече, корявыми черными пальцами снял нагар. Только теперь Токарев как следует рассмотрел его одежду. Это было что-то наподобие плаща из домотканого холста, когда-то, очевидно, белого, а сейчас застиранного, в пятнах и пыли. Такую одежду Леонид Георгиевич видел в музеях.
– Ты не стираешь свою рубашку? – Токарев и сам не знал, зачем он задал этот глупый вопрос.
Старик продолжал пристально смотреть на ревизора. Он словно бы делал усилие, чтобы тот узнал его. Но Леонид Георгиевич все отдалял и отдалял неизбежный миг узнавания.
– Ведь здесь есть вода…
– Мне некогда, – сказал Старик.
– Ты приходишь ко всем, кто попадает в Пещеры?
– Почти… – Старик запнулся. – Кто хочет меня видеть.
– Значит, я хотел тебя видеть?
– Да.
– Я же шутил… Я же сказал…
– Выходит, не шутил. Ты давно искал со мной встречи.
Они помолчали. Свеча горела ровно, сильным высоким пламенем, каким никогда не горит наверху даже в комнате; оплывала, но не уменьшалась в размерах, и это почему-то не удивляло Токарева.
– Ты скоро уйдешь? – спросил ревизор.
Старик покачал головой.
– Раз уж я пришел… Я буду с тобой до конца.
– До… какого конца?.. – спросил шепотом Токарев.
– До любого.
Загадочный гость помолчал.
– Я и поседел сегодня.
– Вот как… Так вдруг?..
– Так вдруг. За одну ночь я стал Стариком.
Токарев удивился.
– Я слышал, что ты живешь двести лет.
– Я живу вечно. Рождаюсь и умираю… рождаюсь и умираю.
– Как это так? Не понимаю…
– С кем-нибудь… Рождаюсь с кем-нибудь и умираю с кем-нибудь. Ты уже догадался?
– Еще нет… Подожди… – Токарев разглядывал лицо Старика. – Ты сегодня умер?
– Да.
– И сегодня родился?
– Да.
– Умер пожилым человеком?
– Да.
– И родился Стариком.
– Да. Теперь ты догадался?
– Сейчас догадался.
– И что ты скажешь?
– Я рад. Значит, я буду жить долго.
Старик грустно качнул головой.
– Этого я не знаю.
– Но ведь ты – это я. В старости…
– Да… Но я не знаю… Я могу быть просто тем, кем ты мог стать, но не стал.
– Я стану.
– Не знаю.
Токарев собрался с силами.
– Слушай… Старик… Я не хочу лежать здесь один среди голого камня тысячелетия… Я хочу на кладбище, среди всех… Пусть у дороги, пусть сотрясают МАЗы и пусть Кеша похоронит без белых тапочек. Ты можешь сделать хоть это? Я не прошу у тебя жизни, но хоть это ты сделать можешь?
– Могу, – сказал Старик.
– Да? Ты не шутишь? – встрепенулся Токарев.
– Не шучу. Я дам тебе совет. Советы я могу давать.
– Давай, Старик… Только быстрей… Я теряю последние силы…
– Вставай и иди.
– Ты что? Смеешься? Куда идти?
– Куда-нибудь. У тебя будет цель. А цель – это жизнь.
– Я не могу… Мне не хочется даже шевелиться…
– А ты сосчитай до трех и вставай. Ну?
– Нет, я слишком слаб… Мое тело уже слилось с камнем… Оно стало камнем, оно принадлежит этим катакомбам.
– Раз!
– Шевелятся только пальцы на руках… И губы…
– Вот видишь… Ты можешь шевелиться… Два! Ну, вставай же!
– Кружится голова… Как в первом вальсе, который я танцевал в девятом классе. Тогда так же вертелось… И зал, и оркестр, и толпа, и девочка, с которой я танцевал… Хорошая девочка, с косой и алыми губами…
– Не уходи в воспоминания. Воспоминания – это смерть. Сейчас я скажу «три». Если ты тогда не встанешь, то больше никогда не сможешь.
– Подожди, Старик… Подожди еще немножко… Так хорошо лежать на камне… Мое тело цементируется, делается очень прочным… Как приятно делаться каменным…
– Три!
– Не могу…
– Три!
– Старик, я не хочу! Не хочу двигаться, я хочу покоя. Жизнь моя, и я ею распоряжаюсь, как хочу…
– Коля…
– Что? Что ты сказал?
– Коля…
– Старик, ты что сказал?
– Я сказал – Коля. Твой сын.
– Замолчи, мне больно… Старик, сжалься, перестань галдеть… Ты мне надоел… Я не вынесу этого…
– Коля! Коля! Коля!
– Не мучь, Старик… У сына есть мать, она позаботится о нем… Я устал от напряжения… Ты не знаешь, Старик, как трудно даже согнуть ногу… Надо сначала перелить всю кровь в правую ногу… потом напрячь обескровленное сердце… Старик, ты знаешь, как болит обескровленное сердце? Оно стучит клапанами, оно дымится, скрежещет металлом по металлу… Горят мускулы…