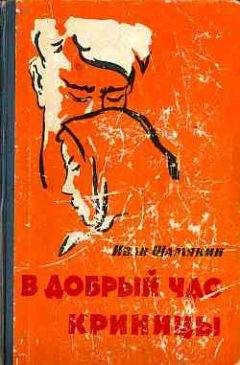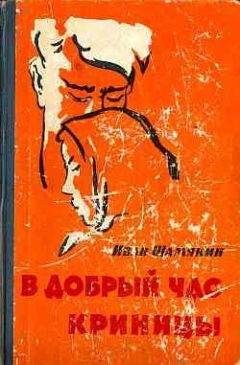Но Маше все равно было обидно: почему сдают худшие колхозы и не мог сдать Лазовенка, лучший председатель в районе?
И вдруг из-за поворота дороги вылетели навстречу машины — три грузовика, наполненные мешками. Над первым развевался красный флаг. Она узнала машину «Воли» и увидела в кабине мужа. Шофер свернул в сторону, давая дорогу. Маша толкнула его.
— Не останавливайся!
Шофер кинул на нее удивленный взгляд, рванул машину. Василь тоже узнал её, замахал рукой, остановил свой грузовик.
Она услышала, как Василь крикнул «Маша!» и, оглянувшись, увидела, что он стоит на дороге и удивленно смотрит вслед. Тогда она поняла, как ему неловко перед своими людьми, перед девчатами, которые её, конечно, узнали, и разозлилась на себя, чуть не заплакала от огорчения.
«Как девчонка… Срам… Добродеевцы бог знает что подумают. Почему я не остановилась?» Она сама не понимала своего поступка. Не понимала, почему ей было стыдно встретиться с Василем.
Шофер Степан Лавренбвич, молодой и молчаливый паренек, относившийся к ней с большим уважением, проехав несколько километров, осторожно спросил:
— Что, поругались уже? Маша ответила шуткой:
— Нет, собираюсь поругаться.
Степан долго молчал и только возле самых Лядцев сделал глубокомысленный вывод:
— Все вы такие… женщины… Непонятные. «Непонятные… Правда что непонятные», — несколько раз в этот день вспоминала Маша его слова.
Она не пошла больше ни на ток, ни в поле: она плохо себя чувствовала. Еще утром ей было нехорошо, и она боялась: не захворала ли? Днем стало как будто лучше, и она забыла обо всем, увлекшись сушкой и подготовкой к сдаче первого зерна. Теперь, после поездки в район, опять стало тяжело на сердце, разболелась голова. Она понимала, что дело не только в том, что она переволновалась. Было ещё что-то, что вызывало это беспокойство, но что — она не знала. Она попробовала заглушить его работой. Постирала белье, вымыла пол, хотя совсем недавно его мыла, подмела во дворе, убрала каждый уголок, как перед праздником. Но она никогда не возвращалась домой так рано: уже и работы больше не находилось, а солнце только ещё зашло за хаты. Правда, осталось ещё одно дело — приготовить ужин, но топить печь в такую пору, когда люди ещё на работе, было неловко. Маша решила испечь блины. Открыла дежу, вдохнула приятный, кислый запах квашни и вдруг почувствовала, что ей страшно хочется… квасу. Холодного, крепкого хлебного квасу. Она долго стояла неподвижно, мысленно наслаждаясь этим чудесным питьем. Счастливая улыбка как-то необыкновенно осветила не только её лицо, но и все существо, казалось, женщина в один миг расцвела, как цветок. А желание напиться квасу не проходило. Она выпила простокваши, развела блины, а запах кваса, его кисло-сладкий вкус все больше и больше дразнили её. В поисках дела она вышла на огород и увидела издалека Сынклету Лукиничну. Старуха копошилась у себя на грядах. Маша после замужества как-то стеснялась её и избегала встреч, да и Сынклета Лукинична, столкнувшись случайно, кивала не очень приветливо.
Маша долго колебалась и наконец не выдержала, потому что хорошо знала, что у нее должен быть квас. Она незаметно подошла к забору, несмело поздоровалась. Сынклета Лукинична с усилием выпрямила спину (она копала картошку-скороспелку), проницательно посмотрела на Машу, затаила непонятную усмешку — чуть шевельнулись морщинки в углах рта, но на приветствие ответила ласково.
— Добрый день, Машенька. Ты сегодня какая-то… светленькая.
— Тетя Сыля, дайте кружку квасу, если у вас есть, — попросила Маша и сама испугалась: как неожиданно все получилось!
— Квасу? — Сынклета Лукинична сначала как будто не поняла, потом лицо её вдруг смягчилось, подобрело, материнской лаской засветились глаза. Она засуетилась, стала торопливо вытирать о фартук руки. — Квасу?.. Машенька, милая… Погоди минуточку, побегу принесу. Садись вот тут, на мешок…
Она принесла полный кувшин пахучего пенистого квасу. Маша пила прямо из кувшина. Пила жадно, не переводя дыхания. Две янтарные струйки бежали по щекам, по шее, стекали на кофточку.
— Хватит, глупая! — Сынклета Лукинична отобрала у нее кувшин.
Маша засмеялась.
Сыяклета Лукинична поставила кувшин в борозду и неожиданно обняла её, привлекла к себе:
— Славная ты моя!..
Минутку они, обнявшись, молча сидели на меже. Маша, осторожно освобождаясь из объятий, спросила:
— Вы на меня не сердитесь, тетя Сыля?
— За что я буду на тебя сердиться? За то, что ты счастье свое нашла?
Поезд приходил на рассвете, когда чуть начинала светлеть полоска на востоке. Еще не проснулся станционный поселок и даже в конторе «Заготзерно» не горел свет. Только возле склада — длинного кирпичного строения, вытянувшегося вдоль пути, — и у вагонов, стоявших против него, переговаривались люди и немного подальше разводил пары маневровый паровоз. Алеся проводила взглядом красный огонек последнего вагона, оглянулась и увидела, что вышла она одна. На платформе больше никого не было, только к зданию станции плыл зеленый фонарик дежурного, фигура его чуть вырисовывалась в предутренней тьме. Алеся на миг заколебалась, раздумывая, что делать — идти или подождать, пока рассветет. Но, поглядев на восток, потом почему-то на верхушки высоких тополей, пиками упиравшихся в небо, она продела косынку в ручку чемодана, вскинула его на плечо и решительно перешла полотно. И тут, возле горы шлака, она неожиданно встретилась с Павлом Кацубой. Увидела его — и удивилась.
— Ты тоже этим поездом приехал?
— Нет. Я пришел тебя встречать.
— Меня? А как ты узнал, что я сегодня приеду?
— Я приходил и вчера и позавчера… Три раза…
— Три раза?.. — Алеся опустила чемодан, довольно сильно стукнув им о землю, и, порывисто протянув ему обе руки, тихо и ласково поздоровалась:
— Доброго утра, Паша… Он крепко сжал её руки.
— Доброго утра, Алеся. Сдала?
— Сдала. Сдала. Паша! Сдала, мой славный рыцарь, — и она, не помня себя от радости, от счастья, которое не покидало её всю дорогу от Москвы и ещё больше, ещё светлее стало сейчас, в эту минуту, сжала ладонями голову Павла и крепко поцеловала в губы. И сама страшно смутилась. И его смутила. Забыв о вещах, она быстро пошла по дорожке, покусывая уголок косынки. Павел поднял чемодан и молча пошел следом. Долго Алеся не оглядывалась. Она злилась на себя и даже на него, а за что — не знала. Ей хотелось, как прежде, смеяться, шутить; раньше она никогда его не стеснялась: подтрунивала, заставляла выполнять все свои желания и капризы. Она знала, что он её любит, и сама в глубине души испытывала нечто не совсем обычное, но относилась к этому беззаботно, шутливо, несерьезно. И вот это утро, его неожиданное появление и ещё более неожиданный поцелуй все изменили. Алеся почувствовала, что она больше не может, не имеет права вести себя по отношению к нему так, как прежде. И, возможно, потому и злилась.
Но постепенно она замедлила шаг и наконец оглянулась, поджидая его. Когда Павел приблизился, виновато улыбнулась.
— Тебе тяжело? Давай я понесу.
— Ну, что ты! Нисколечко не тяжело, — запротестовал он, хотя лоб у него был мокрый.
— Я там накупила всякой всячины… Дойдем до сосняка, выломаем палку и понесем вдвоем. Хорошо? Какие у тебя новости? Тебя, конечно, зачислили без экзаменов?
— Нет, был конкурс. Сдавали математику. Я сдал на «отлично», первым кончил письменную.
Она с гордостью посмотрела на него и тоже похвасталась:
— Я тоже хорошо выдержала… Даже самой не верится, что я так много знаю.
Они вышли на дорогу и шли уже не друг за другом, а рядом.
Шли и чувствовали себя неловко оттого, что не знали, о чем говорить. Никогда раньше этого не бывало: у них всегда находились темы для бесконечных разговоров по пути от районного центра до Лядцев. Только когда они в самом деле, по требованию Алеси, выломали палку и понесли чемодан вдвоем, он робко не то спросил, не то сказал:
— Алеся, мы будем переписываться?
Она удивилась и даже как будто возмутилась: к чему он задает такие нелепые вопросы?
— А как же иначе! Мы ведь с детства дружим…
— Я тебе каждый день писать буду.
Она ответила не сразу, они молча прошли добрую сотню метров. Было душно. На сухой траве — ни росинки. Неподвижно застыла листва на березках, росших вдоль дороги и уже, как золотыми каплями, расцвеченных первыми желтыми листочками.
— В первый год Максим писал Маше каждый день, — сдержанно, со вздохом произнесла Алеся, как бы сама себе.
Павел даже остановился, вздрогнул, лицо его залилось краской.
— Я не Максим, Алеся! Ты меня ещё плохо знаешь. Я тебе докажу, какой я! Ты увидишь!.. — Голос его задрожал.
Алеся, понимая, почему так разволновался её друг, ласково попросила: