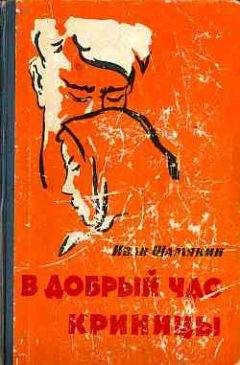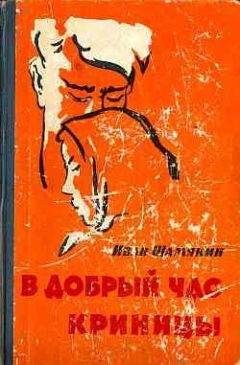— Я тебе теперь, Антонович, вздеру под зябь все, даже те пустыри, где не сеялось с сорок первого года. Засевай, только потом управляйся.
Сев озимых прошел сравнительно гладко, особенно если не считать стычек Максима с Машей из-за агротехники — норм высева, удобрений. Как-то в споре они наговорили друг другу неприятных вещей. А потом Маша спокойно сказала ему:
— Максим, если хочешь руководить колхозом, почитай литературу по агротехнике. Как другу тебе советую. Нельзя сейчас без этого руководить, пойми ты, чудак этакий!..
«Как другу», — это его разозлило. — Нашлась советчица!.. И без тебя знаю, да попробуй почитай, когда так вертишь-ся… Тебе легко говорить!»
Но, успокоившись, он задумался над её словами. «А почему ей легко? Нет, и ей нелегко. Однако она читает, успевает все-таки. И Лазовенка продолжает учиться заочно».
Отношение его к Маше менялось. Он перестал окидывать её оскорбительными взглядами. Постепенно ослабевало и чувство ревности, злобы к Василю, хотя изредка оно и вспыхивало вновь, в особенности когда кто-нибудь из руководителей начинал сравнивать, противопоставлять их работу.
Начались дожди. Долгие и скучные осенние дожди. Дождь на три дня остановил почти все работы, загнал людей в хаты. Застряв дома, Максим решил взяться за чтение. Прочитал газеты за много дней, взял книгу по агротехнике, просмотрел несколько глав и впервые почувствовал интерес к этой скучной, как ему раньше казалось, литературе.
Сынклета Лукинична наблюдала за сыном, удивлялась и радовалась, по дому ходила на цыпочках, чтоб ему не помешать. На четвертый день дождь утих, только изредка отдельные тучки, которые все ещё безостановочно плыли по небу, сеяли изморось.
Максим прошелся по колхозному двору, побывал в конюшнях, коровниках, в амбаре и увидел там такое количество недостатков, нарушений, какое никогда раньше не замечал, как будто дождь поднял их все на поверхность. Это испортило ему настроение. Подлила масла в огонь заведующая фермой Клавдя Хацкевич своими бесконечными требованиями одно сделать, другое переделать, третье достать, четвертое привезти. Раньше он просто отмахивался от нее, но теперь вдруг увидел, что все её требования справедливы, и от этого разозлился ещё больше.
«Фермы у нас самый отсталый участок. Надо будет и в самом деле попросить Гайную, чтобы продала нам породистых коров».
Вернулся домой, попробовал читать — не читалось. На дворе разгулялся ветер, и было слышно, как шумели под окном два молодых клена. Они роняли на землю желтые листья, ветер гнал их по улице.
«Быстро выросли, — подумал Максим о кленах. — Мать посадила их вместо старых, сгоревших в сорок третьем. Те сажал отец ещё мальчиком, вместе с дедом, с прадедом моим… Летит время…»
Вспомнились слова Клавди: «Ты бы спросил у людей, как батька твой ферму любил… Какие у нас коровы были до войны… А сейчас разве это коровы? Другая коза больше молока дает…»
От клена оторвался лист, прилип к стеклу.
«Почти зеленый ещё, должно быть, дождем сбило».
Максим повернулся к окну спиной, чтобы не смотреть на улицу, на клены. Все равно не читалось. Оторвался от мыслей о хозяйстве — стал думать о Лиде, об их отношениях. Сколько времени прошло, а он ничего не знает о том, как она к нему относится, и даже спросить не решается. Вот вчера, когда он вечером, несмотря на дождь, пошел к Ладыниным, Лида встретила его так холодно, насмешливо, что он счел за лучшее как можно скорее попрощаться. На душе остался неприятный осадок.
По двору мимо окон прошел Шаройка.
Максим встряхнулся, недовольно подумал: «Черт его несет… И минуты побыть одному нельзя».
Встретил Шаройку не очень приветливо, хотя тот зашел оживленный, веселый, как заходят к лучшему другу.
Максим сразу сбил с него веселое настроение коротким вопросом:
— Вернулся?
Шаройки долго, что-то больше месяца, не было дома, ездил к сыну в Горький.
— Вернулся, Антонович.
— Когда уже кончилась работа в колхозе, так?
— Антонович! Два минимума имею, даже с гаком, с гаком… Какие могут быть нарекания?
— Минимумы!! Пока бригадиром был?
— И после работал, сколько здоровье позволяло. Работал, брат.
— Здоровье! Здоровья у тебя на троих хватит. Шаройка неестественно закашлял, как бы желая показать, что здоровье у него и в самом деле слабое.
Он сидел на табурете против стола, сворачивал цигарку, рассыпая по полу табак.
— Обижаешь ты меня, Антонович, — и тяжело вздохнул. — Обижаешь, брат, а за что — не понимаю… Что я тебе сделал? Душа в душу жили. Хлеб-соль делили…
У Максима эти слова перевернули все нутро, ему казалось, что у него даже заклокотало в груди. Он покраснел, поднялся из-за стола, уставился взглядом на Шаройку. Тот опустил глаза, слюнил цигарку, делая вид, что не замечает его волнения.
Но Максим сдержался.
— Зачем пришел?
Шаройка чиркнул спичкой, закурил.
— Дозволь, Антонович, соломы взять, яму накрыть.
— На днях раздадим на трудодни.
— Бабы картошку из хаты в яму перенесли, теперь, понимаешь, хоть неси назад.
— Ладно. Возьми. Из незавершенной скирды, — и подумал: «Черт с тобой! Не надоедай только, без тебя тошно».
А когда Шаройка вышел, Максим спохватился, выругал себя: «Сколько раз мне уже за это доставалось! Нельзя раздавать колхозное добро, как свое собственное, как это делал Шаройка. Не выписав, не оформив через бухгалтерию… «Возьми». А кто знает, сколько такому хапуге вздумается взять? Он способен целый воз перетащить… А там, глядя на него, ещё кто-нибудь захочет… Непременно скажут: если Ша-ройке можно, почему нам нельзя? Нужно пойти запретить».
Однако гордость, самолюбие не позволили ему это сделать, и настроение у него стало ещё хуже.
Шаройка поленился дергать солому снизу и взобрался на скирду, развернул верхний мокрый пласт. Сбросить его он не решился, а набрать необходимое количество сухой соломы оказалось нелегким делом. Все равно пришлось выдергивать по пучку.
Работал и ворчал:
— Хозяева! Не могли завершить, полскирды промочило.
Он не видел остальных, хорошо укрытых скирд, порядка на току, какого при нем никогда не было. Он старался видеть только дурное и, когда находил его, злорадствовал: «Ага, нахозяйничали без Шаройки».
Внизу, под скирдами, ходили колхозные гуси, важно переваливались с ноги на ногу, искали зерна. Шаройка сбросил солому, они стали её разгребать. Он замахал руками, кинул в них соломой, но гуси только красиво выгибали шеи и продолжали свое дело.
Шаройка разозлился:
— Чтоб вас волки съели! Кшш! Пошли прочь, дьяволы!
Гуси отвечали дружным гоготом — все разом, как будто смеялись над ним. На горе, Шаройка увидел в соломе палку — половину расколотой ручки от веялки. Схватил её, швырнул изо всей силы. Палка ударила гусыню по голове, и та упала, задергала ногами. Остальные, закричав, вподлет кинулись в сад, где паслось все стадо. Гусыня не поднималась.
Шаройка испуганно оглянулся. Вокруг не было ни души. Он торопливо соскочил вниз, озираясь, как вор, засунул убитую гусыню под скирду, прикрыл соломой. Свою солому увязал вожжами, вскинул на плечи, прошел шагов десять, остановился, сбросил тяжелую ношу, ещё раз оглянулся. «Пропадет, если никто не наткнется. А тяжелая, жирная, килограммов пять чистого веса будет. А если найдут?.. Шум подымут… Допытываться начнут… Кто был сегодня на току? Амелька был…» Он даже вспотел от этой мысли.
«Лучше, чтоб никаких следов. Пока досчитаются… Их уже за сотню перевалило… Не обеднеет колхоз от одной гуски. Все равно не одну съедят начальники. Слава богу, знаем, как это делается».
Еще несколько дней назад Лесковец вдруг надумал сбрить усы, которыми он раньше так гордился. Но это оказалось нелегко: каждый раз, когда он подходил к зеркалу, ему становилось жаль усов, и он откладывал свое намерение. И вот теперь он твердо решил сделать это.
Но только он пристроился, направил на ремне бритву и начал намыливать щеки, как в хату, задыхаясь, влетел Федя Примак, младший сын бригадира тракторной бригады.
— Дядя Максим! Амелька убил колхозного гусака, спрятал в солому и несет домой!
Максим от изумления остолбенел.
— Какой Амелька?
— Шаройка! Давайте скорей, вы его переймете, он через Кацубов двор идет!
Максим вскочил, на ходу ладонью стер мыло и, в не-подпоясанной гимнастерке, выбежал следом за Федей на улицу.
Шаройка вышел со двора Кацубов и переходил улицу с объемистой охапкой соломы за спиной.
Максим бегом догнал его.
— Погоди, Амелька!
Тот обернулся, и лицо его сразу побелело.
— Развяжи солому!
У Шаройки жалостно передернулись губы; казалось, он вот-вот заплачет.
— Максим Антонович…
— Развяжи солому, сукин сын! — закричал Лесковец и рванул за вожжи, дернул охапку так, что солома полетела по ветру, а гусыня плюхнулась на землю.