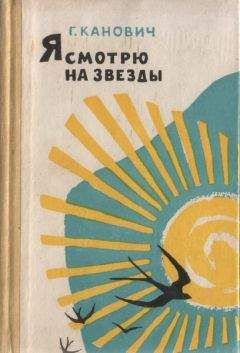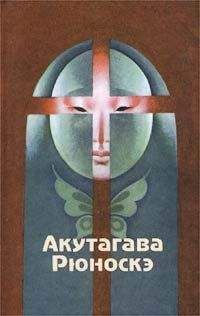— Что скажет?
Что-нибудь… про агитацию… Я, скажет, тоже люблю агитацию. И жалко, что ее не любит господин Айзенберг, полицмейстер Корсакас и какой-то в шляпе.
— А может, президент ее совсем не любит.
— Все равно выпустят.
— Дай бог, — светлеет Винцукас.
Белые полотенца трепыхаются на ветру, как паруса. Зловонный двор Капера плывет куда-то, словно корабль в книжке скорняка Лейзера. На том корабле, говорит Лейзер, какой-то Колумб открыл Америку.
— Делать ему нечего было, — говорит дядя Мотл-Златоуст. — Вот он и открыл ее.
У нас в местечке нет кораблей. Есть паром и лодки. Но разве на пароме откроешь Америку? Паромщик Эустахиюс мечтает открыть трактир. А лодки вечно стоят на приколе.
— Скоро ты там? — торопит Винцукаса прачка Мария, выглянувшая из подвала.
— Бегу, — отзывается Винцукас. — Пока.
— Э, — задерживаю его. — А все-таки что это за птица агитация?
— Сам ты птица, — огрызается Винцукас, спускаясь в подвал.
Почему, — размышляю я, — господь придумал разные слова? Почему он одним вложил в уста понятные, а другим — непонятные? Взять, например, слово «разбойник». Тут все понятно. Разбойник пропадает целыми днями у реки, не ходит в синагогу, клянчит пять центов на мороженое, дружит с Винцукасом, гоняет голубей, сует свой нос, куда не следует.
Бабушка сплошь состоит из понятных слов. Что бы она ни сказала, все понятно:
— Авремэле, вставай!
— Ложись!
— Сбегай!
— Почисть!
— Подмети!
— Выбрось!
— Выплюнь!
— Съешь!
— Подавись!
— Не шляйся!
— Не выводи меня из себя!
Есть у бабушки два-три непонятных слова. Первое — это «люблю».
— Я люблю тебя, разбойник, люблю, — приговаривает бабушка и щиплет меня за уши, бьет черпаком, не пускает к Винцукасу, тащит в синагогу.
— Я люблю тебя, негодник, люблю, — приговаривает бабушка и оставляет мне хвост от рыбы, кости от селедки, жижу от горохового супа.
— Я же люблю тебя, люблю!
Второе непонятное слово — это анцемит[4].
— Директор гимназии Олекас — анцемит!
— Полицмейстер Корсакас — анцемит.
— Бакалейщик Гайжаускас — анцемит.
— Винцукас — анцемит.
У деда только одно непонятное слово: «Ну».
Больше всего непонятных слов у дяди Мотла-Златоуста и все на «уция» и «ация»:
— Коституция!
— Революция!
— Экспотация!
— Нация!
И вот еще:
— Агитация!
Мои размышления о непонятных словах неожиданно прерывает бабушка. Уж, видимо, так заведено на свете, что спрятаться можно от кого угодно — от полицейского Гедрайтиса, от гимназиста Владаса, от отца и матери, но только не от бабушки.
Бабушка найдет тебя повсюду.
Ну что ей стоило пройти мимо? Мало ли кто в местечке проходит мимо меня: и сын господина Айзенберга, и дочь лавочника Зака, и племянник домовладельца Капера.
Дядя Мотл-Златоуст клянется, что они буржуи.
А почему бабушка не может быть буржуем?
— Тебе, — кудахчет она, — голуби и уклейки дороже синагоги.
Дороже!
Красиво поет кантор Шлейме, а с голубем ему не сравниться. Когда воркует голубь, у меня внутри все переворачивается, как будто я сам птица.
— Я пойду с тобой на вечернюю молитву, — обещаю.
— А на дневную?
— И на дневную… А деньги дашь?
— Дам. Нет, что я узнала, что я узнала! — всплескивает руками старушка. Ей не терпится поделиться со мной новостью.
Бабушка всегда приносит уйму новостей. Дядя Мотл-Златоуст уверяет, что в газете скорняка Лейзера нет и половины того, что бабушка приносит из синагоги.
— Спросил бы хоть, что я узнала, — укоряет меня она.
— Белошвейка Менухе замуж вышла?
— Проснулся!
— У молочника Ария корова пала.
— Удивил!
— Казиса арестовали.
— Кого?
— Казиса. Брата Винцукаса.
— Что же ты молчал, разбойник. Рассказывай, за что?
— За агитацию.
— Не больше и не меньше?
— Не больше и не меньше.
— Ну, а дальше?
— Что дальше?
— Много этой агитации у него нашли?
— Много.
— И все золотом?
— Не знаю.
— Или серебром?
— Не знаю.
— Ты когда-нибудь, разбойник, научишься рассказывать толком? Такое дело, а от тебя ничего не добьешься!
— Бабушка! А про свою новость ты и забыла!
— Ах, да, — спохватывается старушка. — Гончар Пейсах сказал мне, а ему сказал жестянщик Хиле, а жестянщику Хиле сказал хромоногий Мейлах, а хромоногому Мейлаху сказала Песе-Фруме, что к нам придут русские.
— Русские?
— Со звездами на шапках.
— А что они будут делать?
— Охранять нас от Гитлера.
— А зачем у них звезды на шапках?
— Чтобы все видели.
Бабушка говорит еще что-то, но я не слушаю.
Меня совсем не интересуют цены на воловье мясо и женитьба парикмахера Шмуле.
Меня совсем не интересует больная печень казенного раввина.
Меня совсем не интересует пожар в Укмерге и погром в Шяуляй.
Я весь охвачен добрым предчувствием, ожиданием чего-то необыкновенного. Так бывает ранней весной, когда на речке ломается лед, когда набухают почки и прилетают птицы.
Я иду с бабушкой по местечку и гляжу на прохожих, вернее, на их шапки.
Как ни хороша фуражка полицейского Гедрайтиса, к ней звезду не приколешь.
Или ермолка казенного раввина. Самая крупная звезда поблекла бы на ней в два счета.
Зато как бы украсили звезды картуз каменщика Пранаса, шапку скорняка Лейзера, кепку Казиса!
И мне звезда пришлась бы к лицу. Я назвал бы ее Сириус или еще как-нибудь.
Я не променял бы ее ни на какие богатства: ни на пугач, ни на цветные карандаши, ни на бамбуковую удочку.
Я обязательно попрошу у русских звезду. И они мне не откажут, потому что у кого их много, тот должен быть щедрым!
— Скоро они придут, бабушка?
— Ты о ком?
— О звездах.
— О каких звездах?
— О русских.
— Скоро.
На сей раз бабушка удивительно скупа на слова.
О ценах на муку и масло, о смертях и женитьбах, о болезнях и пожарах она может стрекотать часами, а на другое у нее не хватает времени.
Что она знает о звездах?
Ничегошеньки!
Только в ее песнях живут звезды. Но живут они не одни, а вместе со слезами и бедными шишками.
«Звезды сияют всю ночь в небесах,
горькие слезы стоят на глазах,
бедная пташка рыдает навзрыд,
бедная пташка горюет, горит…»
В песнях бабушки слез больше, чем звезд. И все пташки горюют, рыдают, горят. Нет ни одной, чтобы щебетала, свистела, чирикала!
Мне почему-то кажется, что русские придут под вечер, что первыми над местечком зажгутся их звезды, а потом уже те, которые так далеки, так далеки.
Самое обидное, если они придут ночью и я просплю.
Господи, сделай так, чтобы я потерял сон, сделай так, чтобы они пришли под вечер, сделай так, чтобы я встретил их первый, и я отблагодарю тебя: я пойду на дневную и вечернюю молитву и не возьму за это у бабушки ни цента.
Когда же придут русские?
Сегодня мой день рождения. Мне исполнилось десять лет.
— Что такое десять лет? — вздыхает дядя Мотл-Златоуст. — Два раза по пять… Ноги в царапинах… Крепкий сон… Неплохие отношения с полицией… Поздравляю тебя, Авремэле!
Он подходит ко мне, берет меня за руки, и мне приятна его ласка.
— В твои годы, душа моя, я уже был человеком. Реб Калман Мовшович, царствие ему небесное, взял меня в ученики. Привел на крышу и сказал: «Я сделаю из тебя трубочиста, если ты не упадешь, Мотэле. Не подкачай же. На нас смотрит весь мир!»
Дядя Мотл-Златоуст замолкает на минуту, дает мне щелчок и продолжает:
— Реб Калман Мовшович сдержал бы слово, но он упал и отбил легкие, без которых трубочист не трубочист, а последний чахоточник. Я остался один. Над головой — небо. По бокам — небо. А внизу он — Калман Мовшович. Ты когда-нибудь плакал на крыше?
— Нет.
— И не стоит, душа моя. Все равно никто тебя не услышит. Ни бог, ни дьявол.
Дядя Мотл-Златоуст поднимает на меня глаза, и я чувствую, что вот-вот зареву. В горле застревает какая-то противная шкварка. Пробую проглотить ее и не могу.
Бежать! Скорей бежать отсюда!
Словно разгадав мои мысли, дядя крепко прижимает меня к груди.
— Пусти, пусти! — кричу я. — Мне душно.
— Что с тобой, Авремэле?
С силой вырываюсь из объятий дяди и убегаю из дома. Пускай Мотл остается один… как тогда на крыше… Пускай.
Я не хочу, чтобы он рассказывал про трубочиста Калмана. Я не хочу, чтобы шкварка торчала в горле. Пойду к реке, лягу на берегу, закину голову к небу и крикну что есть сил: