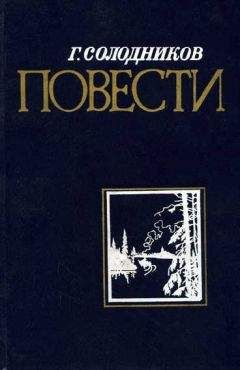И вдруг этот зыбкий покой нарушили звонкие голоса ребятишек, Они высыпали стайкой из леса на противоположном берегу и сразу кинулись к галечному пятачку. Визг, гвалт, смех поднялись над отмелью, радужно заискрились снопы брызг. У Пашки так засосало, заныло под ложечкой, что он вначале резко приподнялся, опираясь на руки, и сразу же откинулся на траву. С ребятишками была Верка и тот долговязый рэушник. Они тоже разделись, немножко утихомирили разгоряченную детвору и поплыли на глубину. Серьезности им хватило ненадолго, они стали дурачиться, гонялись друг за другом, плескались водой.
Мучительно было Пашке наблюдать эту игру. Во всем ему чудился тайный смысл. В таком знакомом заливистом Веркином смехе таился, казалось ему, какой-то намек, скрытое значение.
Ведь так уж было однажды, было у них двоих — у Верки и Пашки. После одного из экзаменов целой группой они катались на лодках. Вечер плыл тихий, ранняя, дозревающая луна струила на землю матовый свет. Негромкие песни девчонок плавно лились над прудом, не достигая берега. А на Верку вдруг что-то накатило. Она давай раскачивать лодку и плескать на Пашку целыми пригоршнями. Глаза ее под луной искрились лукавством, и что-то непонятное, неведомое еще Пашке проглядывало в их глубине: не то призыв, не то обещание чего-то… И вот теперь все повторяется с другим.
Наконец Верка с парнем из ремесленного училища построили ребятишек и направились по тракту в сторону райцентра. Провели их по мосту мимо пастушьего поста, мимо затаившегося в траве Пашки. Свежие, загорелые, они шли впереди отряда я о чем-то весело переговаривались. Неприязнь к счастливому парню, откровенная зависть, жалость к себе, казалось, всеми покинутому и отвергнутому, слились в ледяной сгусток боли. Он распирал Пашке горло, мешал дышать и не скоро растаял.
Не зря говорят: беда не ходит одна. Конечно, и беды-то эти, может, вовсе и не беды, а так, мелкие неприятности, если смотреть сторонним взглядом, если они не задевают тебя лично. Да в том и все дело, что у Пашки одно наслаивалось на другое — новое больное на старое, не зажившее, вовсю саднящее. И душевная боль от этого не просто удваивалась, а возрастала многократно, туманила голову и странным образом смещала взгляд на вещи, казалось бы, вполне обычные.
Весь день Пашку точила тоска, и вечером, несмотря на усталость, он отправился искать своих дружков, чтобы забыться, не оставаться один на один со своей грустью. Семки дома не было. Тогда Пашка перешел через лог и поднялся в Левкину улицу. Угадал он в самый раз, все обрадовались его приходу, встретили восторженными выкриками. Ребята собирались играть в футбол, и в команде у Левки не хватало игрока. Причем игрока конкретного — вратаря, а Пашка и раньше нередко стоял в воротах. Оживленное нетерпение пацанов объяснялось еще и тем, что Левка достал в школе старенькую волейбольную покрышку, заштопал ее просмоленной дратвой, наложил где надо заплатки, набил втугую тряпьем. Такого мяча у них еще не бывало, весной гоняли вовсе самодельный, полностью тряпичный.
Игра шла на равных, команда у противников подобралась что надо. Но Левка не хотел ничего признавать. Ему нужен был выигрыш, только выигрыш, а время шло к концу. Левка носился по улице, стараясь всю игру переключить на себя, вконец сбивал с толку и чужих, и своих, сам все больше распалялся, нервничал, грубо покрикивал на партнеров.
Противники воспользовались неразберихой, смяли защиту и прорвались вплотную к Пашкиным воротам. Но Левка в последний момент опередил их, подоспели и другие игроки из своей команды. На условной штрафной площадке — чуть ли не свалка: мельтешение рук, ног, совсем не видно мяча. И без того тяжелый, лишенный прыгучести, он нехотя перекатывался по кочковатой земле. Пашка в готовности напружинился, пригнулся, растопырив руки и прижав локти к бокам. Игроки, мешая друг другу, бестолково ковыряли землю, с переменным успехом катали мяч вдоль ворот. Пашка предполагал, что он, конечно, пойдет низом, не иначе. Сам не заметил, как присел на корточки, а потом опустился на четвереньки. Так и метался, чудик, на всех четырех. Кому-то удалось подцепить мяч носком, слегка подбросить его. Он прошел над самой Паншиной головой и глухо шмякнулся неподалеку, едва перейдя черту ворот. Противники взвыли от радости. А Левка набросился на Пашку чуть не со слезами:
— Эх, ты! Вратарь-дырка! Четвероногий Хомич… Уж ползал бы по-пластунски.
— Гы-гы-ы… Хомич на четвереньках! — загоготали и сваи, и чужие. Чужие — довольные победой, свои — с некоторым облегчением: теперь я случае чего всю вину за пропущенный мяч — последний, решающий — полностью можно было переложить на вратаря, а самим умыть руки. В первые секунды Пашка просто не успел подумать, об этом, но он сразу же почувствовал настроение момента, уловил его и растерялся еще больше.
Если ребята всерьез прицепятся к его оплошности, пойдет гулять из улицы в улицу приукрашенный рассказ о его вратарских способностях, и долго не износить ему нового прозвища. Надо же — Хомич, да еще четвероногий! Не придумаешь издевки злее… А Левка стоял в кругу пацанов, рассерженно размахивал руками, доказывал что-то. Тут и Пашку заело из-за несправедливости: почему все шишки на него одного?
— Сам-то ты, центрофорвард! Ничего вокруг не видишь, только себя. Всю игру спутал.
— Чего, чего? — прищурился Левка. — Это ты мне? — И оглядел победно ребят. — Молчал бы уж лучше.
Он поднял мяч, ласково огладил его помятые бока и закатил себе под мышку.
— Пошли, ребя, к клубу. Скоро матч будут передавать.
На коньке клубной крыши висел громкоговоритель-колокольчик. С шести утра до полуночи он неутомимо бубнил, расплескивал над поселковой площадью и близлежащими улицами песни и музыку. К нему привыкли, не обращали внимания и не особо слушали. Но в те дни, когда транслировались матчи московских команд, особенно с участием «Динамо», мальчишки — и мелочь пузатая, и постарше — да и взрослые мужики собирались на клубном крыльце, на скамейках вдоль штакетника. Слушали запальчивые репортажи Вадима Синявского, вскрикивали вместе с ним, охали, ахали, подталкивая друг друга. Болели, как на стадионе. Горячо переживали ход игры. Увлекшись, жарко спорили, называли фамилии любимых футболистов, чаще всего вратаря — Хомича.
Если б Левка обратился лично к Пашке, позвал еще раз, он бы, наверное, пошел за ним. Но сказано было вообще, для всех, и Пашка замешкался, а потом и вовсе повернул к дому.
Он долго сидел в огороде под березой и заново переживал свой позор. Почему он оказался на четвереньках? Зачем? Пашка стал вспоминать, как все произошло. Окончательно понял всю нелепость своего поведения, охватил голову руками и замычал бессильно — от стыда и обиды.
Толяс с Зинкой давно уж угнали стадо домой, а они с отцом битых два часа ходили по лесу, по сосновым посадкам. Искали отбившуюся зловредную Девку — ширококостную, большебрюхую корову Паньки-косолапки. Тетка эта, не в пример корове, была махонькая, невидная собой, но скандальная, голосистая. Лучше в лесу ночевать, чем без Девки возвращаться. Отец решил пройти еще по дальним поскотинам возле озера, из которого вытекала Куликовка, а Пашку отправил домой, наказал:
— С баней меня не ждите. Мойтесь, как поспеет.
Тогда-то Пашка и встретил Верку. Встретились, где совсем не ожидал, у входа на плотину в заречной части поселка. Видимо, домой бегала, возвращается в лагерь. Заметил ее издали, заволновался, в растерянности снял с плеча жестяной рожок на шнурке, сунул в пустую брезентовую сумку, передвинул ее подальше за спину.
А Верка — хоть бы хны, не удивилась, не обрадовалась.
— Здравствуй, — говорит. — Все пасешь. И завтра тоже? А мы концерт, — сладко прижмурилась, повела головой в предвкушении завтрашних аплодисментов, — такой концерт подготовили! На гулянье даем. Приходи.
Пашка что-то мычал в ответ, кивал головой, а сам украдкой разглядывал Верку. Ноги дочерна загорелые, со следами царапин на сухой коже, обуты в потертые тапочки. И блузка вовсе не белоснежная, не отглаженная, как показалось тогда издали, а простенькая, застиранная. И глаза хоть и такие же бойкие, но усталые. Хотел он что-нибудь ласковое сказать, спросить: трудно, мол, замаялась с ребятишками. А Верка вдруг ни с того ни с сего:
— Ты зачем в шапке? Смотри, полысеешь.
Рассыпалась смешком и даже руку потянула к его голове. Пашка отшатнулся, ухватился за шапку. И, видимо, такой испуг был у него на лице, что Верка погасила улыбку, заторопилась.
— Ты приходи завтра. Ладно?
Пашка не шел, а бежал домой. Сдерживаемые слезы клокотали в нем, застилали глаза. Волосам под шапкой, казалось, стало тесно, запаристо, и нестерпимый зуд растекся по коже.
В начале лета было прохладно, ветрено, в жару гоняли скот в ночь — без шапки тоже не обойдешься. Лучше б, конечно, кепка. Да где ее возьмешь. Была у Пашки старенькая, да и ту потерял. Играли как-то вечером в чужой улице в сыщики-разбойники. Пашка снял кепку, положил на бревна и позабыл. Хватился лишь дома, кинулся в улицу, а кепки как не бывало. Заикнулся было о новой, да что с того толку.