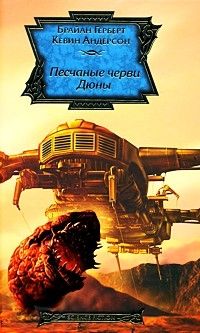— Что с тобой? — еще больше удивилась Ирина.
— Ты ласкаешь грязную свинью! Я — свинья!
Ирина все поняла. Разом сникла, потом провела рукой по моим волосам и сказала:
— Иди ко мне…
Я вскочил как ужаленный и бросился к двери. Дверь оказалась запертой.
— Отопри дверь! Скорей, скорей!
Ирина растерялась и не могла открыть дверь.
— Никогда больше не приду к тебе! Если можешь, прости!
— Успокойся, Гурам.
— Если можешь, прости, дорогая, прости…
— Псих!
Стремглав летел я вниз по лестнице.
Химкинский речной вокзал был пуст. Собравшись с мыслями, я перелистал путеводитель туриста. Потом отправился на Курский вокзал. Завтра в три часа дня наш пароход на пять часов остановится в Горьком. Может, успею нагнать их поездом.
Когда пароход показался у речного вокзала в Горьком, я побежал на набережную и стал кричать, размахивая руками:
— Эге-ге-гей!
Отрывистые гудки парохода заглушили мой крик. Пароход приближался очень медленно.
Я уже различал Энику, которую в чем-то горячо убеждали Директор, Маэстро и Генерал. У меня перехватило дыхание от нетерпения. Как медленно двигался пароход к причалу!
— Эгей-эй-эй-эй! Эгей-эй-эй!
Вдруг я увидел, как Эника протянула руку в мою сторону и исчезла с палубы. Директор, Маэстро и Генерал повернули головы, увидели меня и заорали:
— Из-мен-ник! Из-мен-ник!
Пароход был уже близко. Меня узнали и остальные. Сначала директор турбазы (от него мне влетит, конечно, за самовольную отлучку) и завбиблиотекой присоединились к хору моих друзей, потом их примеру последовали другие… Пароход подплывал, неся мне заслуженный упрек:
— Изменник! Из-мен-ник!
Когда я попал в объятия Директора, он чуть не задушил меня.
— Где ты пропал, кацо, девочка слезами исходит!
Маэстро и Генерал качали головами, а глаза у них блестели от радости.
Крикнув: «Братцы, простите!» — я помчался на пароход, потому что туристы уже садились в экскурсионную машину.
Энику я нигде не нашел, не пришла она и на ужин. Я посмотрел на соседний стол. Трио истопников мирно ужинало.
— Где она?
Директор пожал плечами.
— И ты не знаешь?
Маэстро покачал головой.
— И ты не видел?
— Кого? — спокойно спросил Генерал.
— Кого — да Энику!
— Музей Максима Горького мы осматривали вместе. Больше я ее не видел.
Неужели отстала? Почему? Почему? Одна-одинешенька в чужом городе?! Нет, вряд ли решилась бы. Хотя оскорбленная гордость может на все толкнуть.
— Где моя Эника, где?! — закричал я.
В ресторане наступила тишина.
Директор не выдержал — поднял палец вверх, в направлении капитанского мостика.
Эника подбежала ко мне и сердито забарабанила маленькими кулаками по моей груди, осыпая упреками. Наконец удары стали слабее, и она прижалась к моему сердцу кудрявой головкой.
«Э-ни-ка! Люб-лю! Люб-лю!» — отстукивало мое сердце.
— Бессовестный! — сказала Эника.
Я поднял ее голову. Никогда в жизни не видел таких крупных слез, какие висели на ее ресницах.
Не знаю, сколько времени мы еще будем вместе — Эника, Директор, Маэстро, Генерал и я. Может, до последнего дня путешествия, может, до последних дней нашей жизни. Я не забуду твоих слез, твоей чистоты, твоей теплоты, дорогой мой человек!
Не помню, сколько времени я стоял на палубе, а когда пришел в себя, увидел, что Эника спокойно спит, припав к моей груди. Я подхватил на руки мою светловолосую святыню. Эника открыла глаза.
— Пойду посплю. Четыре дня не смыкала глаз.
— Сладкого тебе сна, девочка! Спокойной ночи.
Проходя мимо каюты друзей, я не вытерпел и осторожно постучал.
— Спят истопники?
Дверь тут же распахнулась.
Никто из них не спал.
— Как дела? — в один голос спросили они.
— Не будет ли у вас чего-нибудь, — я щелкнул пальцем по горлу, — крепкого, мужского, беленького?
— Выпьем! — расшумелся Генерал.
— Вот здесь у нас есть все… — Директор открыл маленький шкафчик.
Маэстро разлил водку по стаканам.
— Так! За что пьем?
— За чайку! За истопников! За белоснежную чайку!
Все чокнулись со мной и выпили.
Зал сверкал. Женщины были в нарядных пестрых платьях, мужчины — в темных костюмах. Смеялись, говорили, но, как в немом фильме, не слышно было ни смеха, ни голосов, ни шагов. Ослепительно светили люстры. Повсюду — в зале, в коридорах, в фойе, на лестницах — разлит был белый свет. Огромные зеркала дробили нежные лучи, умножая и возвращая свет источнику.
Освещенные со всех сторон, люди, казалось, сами испускали свет. Потом движение прекратилось, каждый нашел свое место и притих. Пронесся первый робкий звук — будто пролетела маленькая бабочка. Она запорхала среди ярких цветов. Солнце озаряло поляну золотыми лучами, ныряя в белые шаловливые облака. В траве бился родник, разбрызгивая вокруг радужные капли; капли рассыпались, распадались на звуки. Беспечно резвился ветерок.
Вдруг распахнулась дверь, и показалась голова мужчины. С умными, горящими глазами, крупным, энергичным подбородком, с львиной гривой. Он хотел войти в зал, не зная, что не сможет — в зале не вместился бы даже холмик, а у него вместо плеч громоздились горы. За ними следовали другие горы, тянулись хребтами. А Человек все пытался войти. Стены грозили рухнуть под его напором.
У Человека были удивительно белые руки. Он не был слепым, хотя ничего не видел; не был глухим, хотя ничего не слышал. И так нежно водил своими волшебными руками, что было ясно — пальцы видели и слышали, как рождалась роса, как зарождался первый, еще бесцветный солнечный луч.
Человек пытался проникнуть в зал. С его огромного тела стекали потоки, сливаясь в бушующий океан. Земля была его телом, огнедышащие вулканы заменяли глаза, и солнцем сияло сердце, не обретшее любви. И только руками, белыми, ласковыми руками, искал он радость. Всеосязающими, всемогущими белыми руками искал радость, а радости не было…
— Войди, пожалуйста, зал огромный!
— Не могу, не могу, не умещусь в твоей скорлупе!
— Умоляю, входи! Зал огромный!
— Мои плечи — исполинские скалы и горы! Душа моя — бушующий океан. Разнесу твою скорлупу! Не умещусь в твоем зале!
— Мы давно тебя ждем! Я не один! Входи!
Человек встряхнул плечами… И рухнули все стены, все каноны, все… У него были свои думы, своя душа, которой тесно было на всей земле. И сердце у Человека было необычное. Оно всегда пылало от любви и было могучим и беспощадным. Сердце его пылало в ожидании ласки и радости, хотя по-детски легко терпело разочарование и поддавалось обману. Вот почему гнев его не знал предела, и, когда душа возмущалась, он крушил, разносил все, что вставало на пути, все, что мешало и препятствовало. Но на развалинах и обломках по его следам вырастали вдруг изумительно нежные цветы, пробивалась трава, звенели родники. Родники стекались в реки, реки — в моря, моря сливались в океан, бескрайние просторы которого, то навевающие грусть, то сулящие надежду, были непостижимы.
* * *
Я дрожал от волнения.
Вместе с другими я стоял в коридоре и ждал. Коридор был длинный и чистый. Открылась высокая дверь, и женщина в очках назвала мою фамилию. Я вошел в класс, залитый солнцем. В классе сидели еще четыре женщины и седой мужчина. Колени у меня подгибались, сердце стучало молотом. В большой белой комнате стояли кресла и скалил зубы черный рояль. Рояль насмехался. Я разозлился на черное чудище. Разозлился и рояль. Собрался с силами и завыл:
— Доо! Доо! Доо!
Это был первый услышанный мной музыкальный звук.
— До! А ну повтори, мой мальчик, спой! — издевалось чудовище.
У меня пересохло во рту. А рояль все скалил зубы. Я знал, что могу легко выполнить любое задание и не дам черному чудищу взять надо мной верх. Но от этого еще больше злился на себя.
— До! — неожиданно для меня повторило мое горло.
Чудище рассвирепело, напряглось для решительной схватки.
— Ля! — завизжало оно.
— Ля! — повторило мое горло.
— Ми!
— Ми! — не давал я передохнуть роялю.
— Хорошо, хорошо! — произнес рояль во всеуслышание и неожиданно стукнул по черной блестящей крышке: — Там, тарарам, там, там…
— Там, тарарам, там, там… — повторила моя рука. — Тарарам, там, там, тарарам, там, тарарам тамтам тарарам…
— Тарарам, там там, тарарам там, тарарам тамтам тарарам…
— Хорошо, очень хорошо, — произнесло чудище и ожесточенно ударило по белым клавишам. — Сколько тут звуков? — спросило оно так, будто уже одолело меня.
— Три!
— А теперь? — Чудовище одной рукой ударило по клавишам, а другой прикрыло ее.