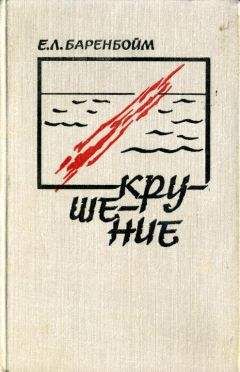— Хочешь обижайся, хочешь нет — а не нравится мне твой Гришка. Нескладный какой-то, будто от дерева сук отпилили. И зубы лошадиные.
Галя обидчиво поджала губы, долго молчала:
— Ты только на фигуру и зубы смотришь. У него душа хорошая.
— Может, и так, — согласилась Мария. — Только видеть его больше не могу. Да и ты, дивчина, выучилась. Прощаться пора.
И снова осталась одна. Даже страшно как-то. Город огромный. Людей в нем сотни тысяч. А ты себе в нем одна-одинешенька, как дикая яблоня в поле…
В голове сильно шумело. Мария прилегла на кровать и незаметно уснула.
Лето тридцать седьмого года выдалось особенно сухим и жарким. Даже ночью не приходила желанная прохлада. Занавески перед отворенной форточкой висели неподвижно, будто в безвоздушном пространстве. Только оботрешься полотенцем, а кожа опять липкая. От духоты Мария спала плохо — ворочалась во сне, вскрикивала, стонала. Ей часто снилась станция Бирзуле, артиллерийская стрельба, настойчивый стук прикладов в дверь, пьяная ругань. Утром, едва первый солнечный луч падал сквозь окно на кровать, она вставала разбитая, долго умывалась холодной водой, вешала на дверь под стекло: «Ушла на базар. Скоро буду» и выходила на еще пустую залитую солнцем улицу.
В половине девятого она уже сидела на первом сеансе в ближайшем кинотеатре «Лира». Она ходила туда ежедневно, как на работу. Смотрела все без разбора. Издалека завидев ее, папиросник Скорпион весело кричал контролерше:
— Зигзаг-пико появился на горизонте. — А когда Мария проходила мимо, начинал дурачиться: — Хочу, мадам, заказать мережку на кальсоны. А на задней части повесить искусственные хризантемы. Сколько сдерешь с бедного инвалида?
Не отвечая, Мария медленно подходила к кассе, потом шла по почти пустому залу на свое любимое место в восьмом ряду и, не отрываясь, полтора часа смотрела на экран. Геройски сражался и погибал Чапаев, пел свою песенку «крутится, вертится шар голубой» веселый революционер Максим, ловил нарушителей границы Джульбарс, грустно улыбался Чарли Чаплин. А Мария все так же сосредоточенно и неулыбчиво вглядывалась в происходившее на экране. «Где, интересно, такие люди, где такая жизнь? — размышляла она, выходя из кино. — Придумали все для забавы». Но обходиться без кино уже не могла. И если на экране погибал герой, молча плакала, не вытирая слез.
В последние месяцы она все чаще вспоминала покойную Апполонскую. Чувство вины перед ней тревожило Марию. В одно из ближайших воскресений она поехала на Байково кладбище, разыскала ее могилу. Могильный холмик осыпался, зарос бурьяном. Мария поплакала, сидя рядом с могилкой на пожухлой траве. А через неделю заказала памятник. И, странное дело, не торговалась с мастером. Сколько запросил, столько и дала. Он сделал его быстро из куска гранита. На лицевой стороне камня по просьбе Марии была выбита надпись: «Спите спокойно, Клавдия Алексеевна. Благодарная навек Маруся».
Все лето и осень, пока не ударили холода, она приезжала на кладбище. Положила венок из железных, выкрашенных в зеленый цвет листьев, привозила цветы, сидела молча на маленькой скамеечке. А уходя, чувствовала облегчение — словно очистилась от грязи, умылась родниковой водой.
Днем висевший между шкафом и иконой богоматери репродуктор внезапно умолк. Раньше Мария никогда не выключала его и он затихал только ночью. «Странно», — подумала она и отворила дверь на улицу. По Большой Подвальной в направлении Сенного базара бежали красноармейцы. Левее школы застыл без тока пустой трамвай. Почти у самых ног в небольшой лужице плавала текстом вверх немецкая листовка. Мария подняла ее, прочла:
«Великая Германия идет, чтобы помочь вам уничтожить большевиков и установить новый, справедливый порядок».
Где-то не очень далеко жахнул артиллерийский снаряд.
На следующий день, в пятницу, девятнадцатого сентября 1941 года немцы вошли в Киев.
Вечером Мария лежала на кровати в полной темноте. Электричества не было. Свечу зажигать боялась. Только под иконой едва мерцала лампадка. Думала: «Что ж теперь будет? Как жить дальше?»
Несколько дней в городе грабили магазины. Взламывали ломами обитые железом двери, разбивали витрины. Тащили все, что можно было унести. Мария тоже не удержалась, вместе с толпой мужчин пробралась в подсобку магазина, унесла целых полмешка проса. Едва дотащила. Спасибо помог взвалить на плечи сын Матрены Ивановны Жорик. У них вся семья осталась в городе. Антон Корж советскую власть не любил. Она забрала у него молочную лавку, заставила паясничать на кинофабрике. Остался в Киеве и дворник соседнего дома Никита. Мария его терпеть не могла. Зайдет, бывало, в ее мастерскую, усы рыжие подкрутит и давай ее на испуг брать. Мол, знаю, что ты свои доходы скрываешь от фининспектора, могу и донести в случае чего. Не поймешь, правду говорит или шутит. Специально для него держала «мерзавчик» пшеничной, не хотела связываться. Сейчас Никита полицай. Ходит с желто-голубой повязкой на рукаве, по-хозяйски покрикивает на оставшихся жильцов.
Не прошло и десяти дней после прихода немцев, как город был потрясен ужасной новостью: Люди не хотели верить в нее, говорили: «Вранье. Это же культурная нация». Но очевидцы клялись, что все правда. В Бабьем Яру были зверски расстреляны десятки тысяч евреев — женщин, детей, стариков. Только накануне Мария случайно встретила Лендермана. Старый портной шел опираясь на руку жены. Глаза его были печальны. Она часто раньше бегала к нему с разными мелкими просьбами — то за нитками, то за иглами, то за древесным углем для утюга. Старик всегда был добр к ней, приветлив. «За что же его расстреляли? — думала Мария. — Кому он причинил вред?» А когда вечером знакомая женщина рассказала Марии подробности расстрела — с нею случилась истерика. Уже давно, еще со времен разлуки с Юлианом, она так не рыдала. «Разве ж это люди? — шептала она. — Душегубы проклятые, звери». Целую неделю она не могла опомниться, прийти в себя.
На улицу теперь выходила редко. Слышала от людей, что в городе продолжаются повальные аресты, облавы. Ищут коммунистов, партизан. Но несмотря на это почти каждый день Киев сотрясался от взрывов.
Только однажды Мария не усидела дома, встала рано и поехала на трамвае в Пущу-Водицу. День был солнечный, теплый. Мария еще до войны полюбила туда ездить, бродить по лесу, собирать грибы, слушать пение птиц. Эти поездки успокаивали ее. И сейчас, как в мирные дни, кружил и шумел по перелескам желто-красный лист берез и осин, падал в студеную воду осенних ручьев. На кустах черемухи виднелись редкие исклеванные дроздами ягоды. Темнели на ветвях берез пустые, брошенные птицами гнезда.
Мария вспомнила, как лет двенадцать назад в эту же осеннюю пору она ездила сюда, на четырнадцатую линию, с Юлианом. Сколько лет прошло, а все не может его забыть. Когда года за два до войны прибежала Доморацкая и рассказала, что встретила Юлиана на Крещатике с женой и двумя детьми, — она всю ночь не могла уснуть. Господи, какая дура была! Зачем аборт поспешила сделать? Был бы сейчас ребеночек, веселее было бы.
Там за прудом тогда стояла большая скирда сена. Они молча лежали в нем, обнявшись, держа по травинке во рту, глядя на небо.
— Хорошо жить, баронесса, — сказал Юлиан. — Ты как считаешь?
Вместо ответа она пощекотала ему травинкой ухо…
В конце ноября темнеет рано. Город с приходом немцев будто вымер. Фонари не горели. Окна домов были завешаны плотной бумагой или тканью. Ходить по улицам было жутко. И все же в один из вечеров, когда оставаться одной в мастерской стало невыносимо, Мария решила навестить Доморацкую.
В еще недавно густонаселенной и шумной квартире было пустынно и тихо, как на кладбище. Комната Доморацкой освещалась каганцом. В блюдце наливался какой-нибудь способный гореть жир, в него опускался скрученный из ваты фитилек. Он светил не ярче зажженной спички. При свете каганца Доморацкая прочитала отрывок из Шекспира:
— Любовь — над бурей поднятый маяк,
Не меркнущий во мраке и тумане,
Любовь — звезда, которою моряк
Определяет место в океане.
Вам нравится, Манечка? По-моему, прекрасно.
За эти месяцы она еще больше похудела и съежилась. Но глаза Констанции на маленьком некрасивом лице горели прежним огнем, а в руках, куда бы она ни шла, всегда была книга. Доморацкая голодала. Долгие часы она выстаивала с вещами под осенним дождем на базаре. Ее обманывали — за ценные предметы давали гроши. Возвращаясь, она плакала, казнила себя за неумелость и доверчивость, но на следующий день все повторялось. Даже ее веселый песик Марсик теперь не лаял радостно и не носился по комнате — как всегда раньше, когда приходили гости, — а только, грустно посмотрев на Марию, лизнул ей руку.