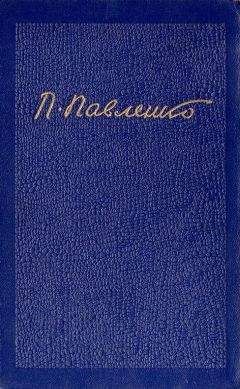Ладный, красивый казачина стоял перед Опанасом Ивановичем и, смущенно теребя новенькую — с алым верхом — кубаночку, смотрел светло-синими глазами вдаль перед собой.
Это был младший сын Саввы Андреевича Белого Николай.
— Так ты, Колька, чего, значит, у нас просишь? Ты опять повтори это мне, — с упоением допрашивал его Опанас Иванович, восстанавливая тишину и порядок.
— Прошу, товарищи старики, оказать доверие, с собой взять, — твердо повторил молодой Белый, ни на кого не глядя.
— А батькина воля есть?
— А батькиной воли у меня нету. Вас прошу.
— А мы и без твоего батьки решим, — закричал Шевченко.
— Семья крепкая, Белые-то. Надо взять. А?.. Взять, что ли? Хлопец-то ладный…
— И Савке примечание будет… Ха-ха-ха…
— Берем, берем… Бери, Опанас Иванович, что ему рыба?
— В знак уважения к батьке твоему, хоть ты и того… ну, да это наш счет… Принимается Николаша Белый: Садись за стол… Справа есть?
— Да есть, есть, дорогие мои, — кричала, обливаясь слезами, Анна Васильевна. — Он с моим Никишкой давно обдумал. Вдвоем я и готовила их.
Ксеня в новенькой черкеске из домашнего горского сукна стояла рядом, потупив взгляд.
— Садись рядом со мной, — сказала она так тихо, что казалось, только подумала.
— Твой старик как бы не заругал? Нет?
— Да что нам теперь… Мы сами казаки…
Гей, гук, мати, гук, де казаки пьют
Над билою та березою атаман!..
запел кто-то.
И опять все повалили к столам…
Станица долго не спала. На одном перекрестке плясали под гармонь, гармонистом была худенькая девочка лет четырнадцати, на другом — хором пели «Иван Иванычи», тринадцати- и четырнадцатилетние хлопчики, в эту весну пахавшие за взрослых, теперешние звеньевые и бригадиры колхоза, а там где-то плакали, бранились, ораторствовали и опять пели, пели.
Пары мелькали в тенистых проулках. Везде прощались.
Ночь была красивой, спокойной, как до войны. Она все пела и кричала до рассвета.
С рассветом колхозный оркестр заиграл «Интернационал».
На станице лежали прохладные тени садов, но холмистые поля за станицей были уже светлы, теплы. Солнце, еще скрытое тучами, бежало по земле низким световым потоком. Сейчас его ручьи приближались к разноцветным огородам и площади за ними. Когда-то на майдане стояла каменная церковь. Теперь вместо нее был клуб.
Митинг начался под открытым небом, среди нагруженных телег, грузовиков, двухколесных плетенок и оседланных верховых коней.
Много слез упало на этом месте и в былые дни. Стояли здесь когда-то казаки, снаряженные в тяжелый турецкий поход. Прощались с родными хатами и ребятишками их сыны и внуки, торопясь в Восточную Пруссию, на германца. А потом, года через четыре, они же, обросшие черными и рыжими бородами, в черкесках, со следами крестов и медалей на груди, клялись оборонять советскую власть, чтоб вернуться домой полными хозяевами, на полное счастье, на полный спокой жизни.
Не раз звучали на этом пыльном выгоне величаво-грустные «думы», не раз навеки прощались казаки со своими семьями.
Но всегда, всегда над печалью проводов витала здесь гордая казацкая воля, лихая казацкая непоседливость, без которой скучно казаку на белом свете.
И всего бы, кажется, вдоволь, и уж душа бы не глядела на сторону, а вот позовет за собой даль, скитание — и пошел, и не уговорить, не задержать. Прости-прощай, родная сторона!
Так и сейчас: долго кричали «ура», и целовались, и плакали, и говорили речи, а потом дружно вскочили на коней. Вся станица тронулась следом.
Анна Колечко, не сомкнувшая глаз всю ночь, была сейчас покорно-тиха, ничего не говоря, ни о чем не расспрашивая. Она шла у стремени, рядом с сыном Никифором, который записался вместе с отцом и, как ни плакала она, как ни просила, не пожелал остаться дома.
Зимние хлеба лежали по сторонам шляха веселою муравой, за ними — до самого горизонта — тянулись серые, еще не загоревшиеся листвой виноградники. Золотые, правда золотые места, суворовские!
— Ну, сваты, прощайте!
— Прощайте, сваты! С победой!
Но не суждено было казакам так просто распрощаться с родными местами.
Родное окликало их всеми цветами и красками, всеми звуками, каждым движением жизни.
В час прощанья послышались взрывы на железнодорожной станции, верстах в двух. Завыли паровозы. Зазвонил колокол.
Казаки вместе с провожающими бросились к станции, окутанной желто-сизым дымом.
Поезд, везший ребят из Ленинграда, не пострадал от бомбежки. Весело смеясь, ребята вылезали из вагонов.
Они были бледные, худенькие, в повязках, с палочками и костылями.
Казачки обступили их, рассматривая с уважением, с гордостью.
Почувствовав на себе внимательные взгляды, дети застеснялись.
Анна Колечко первой вырвалась навстречу детям… В руках ее была корзина с полдником для себя да еще десятка полтора вареных яиц, которые поутру пыталась она вручить сыну Никифору.
— А ну, гражданочки, — бойко крикнула она, — на-ка, детки, держи… съешь на здоровье. Сделай ручку лодочкой — маслица положу… Тебе, донечка ты моя, тебе… А это тебе — с костыликом… Ешьте, родные…
За Анной Васильевной одарять ленинградцев всем, что осталось от проводов, бросились и остальные женщины. Они растерянно бегали по платформе, выглядывая самых жалостливых ребятишек.
В это время прибыли и спешились казаки.
— Детский период, а? — покачал головой Илюнька, глядя на ребят, с наслаждением жующих пироги и крутые яйца.
— Бабы! — закричала Колечко. — Бабы родные! А я — клянусь святым крестом, — этого себе возьму! — и она привлекла к своему могучему животу тоненького зеленоватого мальчика с подвязанною щекою и руками в струпьях.
— Тебя как звать?
— Миша… — мальчик ответил сдержанно.
— Ой, боженько ж мой, худой, как та хмелиночка!.. Ой, бабы, я его заберу!.. Я с него — будьте добры — кабанчика сделаю…
— Мы не на разбор, тетя, мы в санаторий едем, — тревожно сказал ей Миша.
— Тишайте, тишайте! — закричала Колечко, вытирая голым локтем щеки и нос, хотя, признаться, никто не останавливал ее порыва.
— Ты, Анна, брала бы кого поздоровее… а то, выбрала… — сказала ей станционная сторожиха. — Девочку б и я взяла. Годков на восемь, — и она засеменила вдоль вагонов, кого-то вдали приметив.
— На кой мне здоровые да румяные! — закричала Колечко, оборачиваясь ко всем за поддержкой. — Я сама здоровая да румяная, мне вот такую худобку, я з него порося сделаю, сала в два пальца. Я з тебя, Миша, казака воспитаю. Дай ручку, голубок, где тут ваши старшие?
Казачки забрались в вагоны и уже выносили из них несложный детский багаж, когда из станционного здания появились педагоги.
— Граждане! Вы с ума сошли? — закричали они хором. — Дети не раздаются на руки. Это поезд специального назначения.
Они стали оттеснять колхозниц от вагонов, и над платформой поднялся плач и крик.
Подошли поближе и казаки.
— Слушайте меня… Кто хочет взять ребенка на воспитание… Да слушайте меня, чорт возьми!.. Должен явиться к нам в интернат, — прокричала казачкам руководительница эшелона, маленькая, хлопотливая старушка в больших роговых очках.
— Иди ты сама… в интернат! — под общий смех крикливо ответила ей Колечко, и казаки, гурьбой столпившиеся на платформе, поддерживали ее. — Я себе выбрала… Петр! — кричала она. — Чи не прокормим, а?.. Мишенька, не отказываешься итти ко мне? У нас дом справный. Вон дядя Петр, это мой… казак старого бою… лихо его не бери… А твои папа-мама где?
— Скажет тоже, интернат… — шумели казаки. — Шо ему тот интернат. В дому, как ни говори, всегда сытней. Сама и доглядит, сама и спать уложит. Раз ей дитё приглянулось, можете не беспокоиться, такому дитю того не съесть, что она подаст…
Но педагоги не могли позволить разобрать детей по рукам и продолжали спорить.
Отталкивая обступивших ее руководителей, Колечко доказывала свое:
— Шо я, здоровенького беру? Я извиняюсь с вашим интернатом, я знаю, кого выбрать. Вы разве выкормите такого? Заморите. Клянусь святым крестом, заморите. А у меня не помрет, брешете. У меня доси ни одного не померло, а уж какие годы прожили… Спросите людей. Да вот старик мой тут, не даст соврать. Да вот и сын мой, глядите… Ишь казачина!
Миша, испуганный суетой и громкими криками, исподлобья глядел на тараторящую Анну, и трудно было сказать — нравилась ли она ему.
Пожалуй, он побаивался ее и, наверно, ему не хотелось расставаться с ребятами и уходить в чужую станицу, но все же казачка была ему любопытна.
— Тетя, а вы правда казачка? — спросил он ее слабым голосом.
— Ну, бачите!.. Опанас Иванович, Петр, бачите вы, як до меня ребенок прикасается? Он же с умом, слава богу… Казачка я, Мишенька, самая казачка, милок. Со мной не бойся.