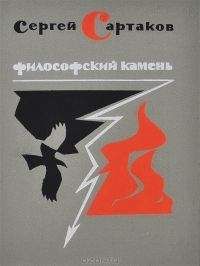— За ваше здоровье, Вацлав! Все остальные, поняла я за ужином, совсем безнадежны. И пусть.
— И пусть! Только мы с вами, пани Ирена, будем здоровы. Извините, пожалуйста; пани Стекольникова! Извините все, господа!
Он почувствовал, опрокинув стакан, что равновесие, наступившее после опохмеления в одиночку, нарушено. Эта порция водки снова бьет ему в голову, туманит сознание. Однако он ухарски улыбнулся. И даже не проследил за ловким движением Ткаченко, каким та отставила свой стакан в сторону.
— Друзья! У нас осталось очень мало времени, — напомнил Бурмакин. — Я никого не тороплю, но ровно через десять минут мы взлетаем.
За окном снова заработали моторы, и стекла в окне отозвались тонким звоном.
По летному полю Виктор шел, словно на пружинах, так легко и приятно было ему. Над лесом слабо желтилась заря. Выше лежали тусклые серые тучи. И, как вчера вечером, сыпалась с неба мелкая изморозь. Но было совсем не холодно. Может быть, это зависело и от выпитой водки, и от прекрасного настроения. Лицо у Виктора пылало.
Ткаченко мурлыкала вчерашнюю песенку, только без слов. А когда они оказались на середине пути между домом и самолетом, вдруг отбежала в сторону, шаркнула подошвами и покатилась по гладкому ледку, заливисто смеясь.
Ах, черт возьми, ведь дразнит, дразнит!.. Виктор с легкой грустинкой подумал, что веселому путешествию скоро придет конец. И вряд ли ему удастся хотя бы еще разок прикоснуться губами к свежим, прохладным щекам пани Ирены.
В самолете разговаривать Виктору не хотелось, тяжело было кричать сквозь грохот моторов. У него еще после вчерашнего спора с Тимофеем немного саднило в горле. И лучше всего бы устроиться среди мягких тюков где-то так, чтобы можно было спокойно лежать, а заодно тихонько любоваться приятным личиком Ткаченко.
Но возле него сразу же оказался Тимофей, сел вплотную.
— Знаешь, Виктор, — сказал он, морщась от шума, — вчера у нас с тобой какой-то беспорядочный и во многом абстрактный был разговор. А больше нам вдвоем побыть, как видишь, и не довелось. Я рано встал, бродил по морозцу и много раздумывал о нашей встрече. Вечером мы уже расстанемся. Но мне хотелось бы кой в чем поставить точки над «i». По-военному, что ли, привык к дисциплине во всем. В том числе и в мышлении.
— Давай, давай, полковник, командуй: «Смирно!» — вяло отозвался Виктор. Он боялся, что снова начнется затяжной спор. И прибавил, словно бы вскользь: — Между прочим, мой тесть, генерал Грудка, по этой части совсем недисциплинированный человек. Видимо, дисциплина мышления не обязательное свойство военных.
Виктор прибавил это для вящего эффекта: вот как непринужденно отзывается он об умственных способностях известного генерала!
— Мне хотелось бы, Виктор, прежде всего выяснить, кто мы: родственники, друзья, знакомые или случайно встретившиеся люди? — Тимофей не придал никакого значения игривым словам Виктора. Говорил очень серьезно. — Что я должен рассказать Людмиле? Я понял, ты ведь не стремишься повидаться с ней.
— А ты сам, к какой категории нас относишь?
— Что ж, я готов, если ты этого пожелаешь, отнести нас ко всем четырем категориям одновременно. Два знакомых человека, связанных прежней дружбой и нынешним родством, случайно встретились в дороге.
— И тогда придется множить твои вопросы бесконечно, — прибавил Виктор. — Почему я не стремлюсь повидаться с сестрой? Почему я раньше не пытался ее разыскивать? Будем ли мы переписываться с тобой? И так далее. Может быть, нам достаточно будет одной категории: случайных попутчиков? Разумеется, после того, как в Иркутске мы попрощаемся. Ведь здесь же, сейчас я не могу отрицать, что мы и родственники, и друзья, и, конечно, знакомые. Не думаю, что пути наши сойдутся и еще где-нибудь. А коль так, мы не больше как случайные попутчики. И тому и другому проще и легче. Как ты должен будешь рассказывать о нашей встрече Людмиле? Как найдешь нужным. Но мне кажется правильнее — ничего и никак. Вряд ли ты станешь рассказывать ей о Стекольниковой или Ткаченко. Вот причисли и меня к безликим твоим спутникам. Или так: летел с нами какой-то чех…
Виктор все это говорил с настойчивостью. Ничего интересного в будущем встреча с Тимофеем ему не сулила, и уж сам-то он, безусловно, дома о ней рассказывать. Густе не будет.
А Тимофей сидел, потирая ладонью подбородок. Хмурился.
— Мне как-то не думалось, Виктор, ни вчера, ни сегодня о том, что проще и легче, — проговорил он. — Жизнь, она жизнь и есть, какая сложится — трудная или легкая. И у меня совершенно не укладывается в сознании, что ее таким вот способом можно регулировать. Для личного удобства. Все-таки Люда моя жена, а ты ее брат. Это изменить никак нельзя…
— И тебе придется писать в анкетах: «Имею родственников за границей», — перебил его Виктор. — А, насколько мне известно, это у вас не очень-то поощряется.
— При любых обстоятельствах я теперь буду писать в анкетах, что имею родственников за границей, — возразил Тимофей. — Лгать я не приучен. А не поощряется у нас иметь за границей только плохих родственников. Впрочем, и у себя в стране тоже.
— Полагаю, что ты уже сделал вывод: для тебя я плохой родственник. Капиталист. И некоммунист, во всяком случае.
— А меня, Виктор, со вчерашнего дня, с первых наших слов не покидает мысль о том, что ты можешь и должен вернуться на родину. Сколько эмигрантов уже вернулось! А ты ведь даже и не эмигрант — щепка, которую забросили волны на чужой берег. С Чехословакией у нас хорошие, дружеские отношения, и решить все формальности, наверно, не составит труда: Ты, говоришь, некоммунист. Ты станешь коммунистом, когда вольешься душой в интересы родной земли и своего народа. Ты помнишь, какая была Россия, когда вы мотались по дорогам бегства колчаковских армий? Ты видел, какая она стала сейчас! И ты можешь представить себе, насколько краше сделает ее свободный советский народ?
— Мне незачем напрягать свою фантазию. И память о минувшем тоже, — сказал Виктор. — Это всхлипы сентиментальных старушек и чувствительных поэтов: «Земля родная, родной народ…» Глина, песок и перегной везде одинаковы. Земля — это почва, на которой растет трава. Народ… Извини, не понимаю, чем полковник Бурмакин мне ближе, нежели генерал Грудка? По-чешски я говорю так же хорошо, как и по-русски. И для чего мне становиться русским коммунистом и надеяться на какое-то отрадное будущее, если я в буржуазной Чехословакии имею уже сейчас достаточно хорошее настоящее. А когда папа Йозеф уйдет в мир иной, оно станет и еще лучше, потому что его пивоваренный завод перейдет ко мне по наследству.
— Виктор! И ты можешь так цинично об этом говорить? — Тимофей отшатнулся. — Это же страшно!
— Можно подумать, что ты, окажись на моем месте, отказался бы от наследства! — с насмешкой сказал Виктор. — Куда же тогда должно деваться все нажитое нашими отцами и дедами? Я знаю, вы эту проблему решили отлично. Поэтому я и не горю желанием вступить в ряды коммунистов. Лучше быть пивоваром. А что сами слова мои тебе показались циничными, я виноват, я не решился сказать о папе Йозефе: «Когда пан Иезус и святая Мария-дева примут его бессмертную душу…» В России не любят упоминать святых. А жизнь и по законам природы так складывается, что старикам, в общем-то, дано умирать раньше, чем молодым. От этой мысли, не облеченной в мои циничные слова, я думаю, и ты не откажешься.
— У меня было предчувствие, что именно к этому мы и придем в конечном счете, — хмурясь все сильнее, проговорил Тимофей. — А вчера я так искренне обрадовался: встрече. Уже видел тебя в нашем доме…
— …комнате, — язвительно поправил Виктор. — У вас никогда не будет собственного дома.
— В нашем доме, где мы живем, — резко сказал Тимофей. — На мой слух это звучит не хуже, чем «собственный». И видел, я, как Люда хлопочет, старается сделать, для тебя приятное…
— Ей приятнее будет все это сделать для тебя. Зачем ворошить то, что начисто забыто?
— Она тебя не забыла! Я же вчера говорил: мы часто тебя, вспоминали.
— А я вчера как будто просил передать ей привет. Теперь я беру, свои слова обратно. Тем более что Людмила помнит Виктора Рещикова, а я Вацлав Сташек. Виктора сначала бросил на гибель в ледяной тайге один его свежеиспеченный брат, а потом этот Виктор вместе с прочей белогвардейской сволочью где-то на дороге подох от сыпного тифа. Теперь все точки над «i» поставлены?
Виктор сказал все это в редкой для него запальчивости, почуяв риторическую выигрышность своих слов. Сказал и внутренне сжался, ожидая, что Тимофей немедленно ударит его. :
Но тот даже не шевельнулся.
Скосив глаза, Виктор заметил только, что он словно бы потемнел, изменился в лице.
Молчание длилось довольно долго. Надсадно выли моторы, словно бы винты самолета вкручивались во что-то густое, плотное. По дюралевой обшивке машины пробегала частая, дрожь, Иногда самолет кренился на одно крыло и потом очень медленно выравнивался.