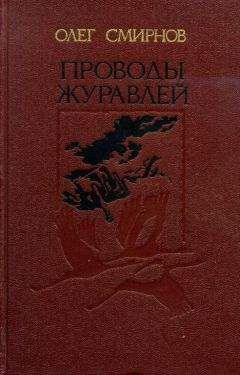Аделаида Прокофьевна, хозяйка, вдруг сказала:
— Александр Иванович был примечательной личностью, его забыть трудно…
— Да? — Вадим Александрович поднял брови: слушаю со вниманием, мол, что добавите к положительным качествам отца, о которых вы уже упоминали.
— Конечно, да! Да! Александр Иванович был живейшая, непосредственная натура. И добрейшая, заметьте! Способная, пренебрегая собою, броситься на выручку другому. Вот был случай… В подъезде испортился лифт, жильцы вынуждены топать по лестнице — и вниз-то нелегко, а наверх еще тяжелей! И вот вижу: старушенция с сумками тяжеленными ковыляет вверх по ступенькам. А ее догоняет Александр Иванович, берет у нее сумки — и ступеньку за ступенькой топает наверх. Ну и что, скажете вы? А то, отвечу я, что у Александра Ивановича сердечно-сосудистые заболевания и таскать тяжести ему категорически нельзя. Мы-то, соседи, об этом знали, но разве с Александром Ивановичем можно было спорить, когда он хотел кому-то помочь? В данном случае — старушенции с восьмого этажа. Так восемь этажей и тащил ее покупки, а сам — с шестого… Рыцарь!
— Да, — сказал Мирошников. — Да.
Он посмотрел на ее кимоно, на бигуди под косынкой — они выпирали, как соски рогатой мины, — и уже не повторил «да», а только кивнул. Рыцарь но рыцарь, но отец поступил как порядочный человек. Порядочность в наши дни рядится в одежду быта. Всю современную жизнь пронизывает быт, никуда от него не деться: мирные будни. На фронте порядочность облекалась в военную одежду, оборачивалась геройством. Мирошников убежден: герои Великой Отечественной — это прежде всего порядочные люди. Несомненно, и его можно отнести к этой категории в ее нынешнем значении, не будем скромничать, Вадим Александрович!
А потом Аделаида Прокофьевна круто сменила тему разговора: сегодня отгул, вечером надо бы в гости, вот и соорудила прическу, с мужем давно разошлась, зима в этом году то морозная, то оттепель, японский халат ей привезла приятельница из Страны восходящего солнца, де откуда-нибудь, — перескакивала с одного на другое, как белка на ветках. Вадим Александрович невзначай оглядел могучий бюст и бедра, мысленно усмехнулся: такую белочку никакие ветки не выдержат. Сказал:
— Я покорнейше прошу вас быть на поминках. Сегодня!
— Да я уж собралась в гости…
— Покорнейше прошу! — сказал Мирошников и усмехнулся: покорнейше, вот именно.
Все было до обидного реально: он сидит у соседки, поглощенный самыми что ни на есть бытовыми занятиями, как будто не преставился его отец. Разумеется, обидно — за отца и отчего-то немножко за себя.
На лестничной площадке громыхнул лифт, и Мирошникову стало страшно, он засуетился, не зная, что делать. Зашаркал — ноги непослушные, чужие — на кухню, поблагодарил бессвязно за обед, за приют, сказал, понижая голос, что, кажется, п р и в е з л и. Аделаида Прокофьевна понимающе кивнула, ободрила золотозубой улыбкой, хотя улыбаться вроде бы и не к месту.
А все это к месту — его сидение здесь, разговоры с соседкой, обед, сумбурные, посторонние мысли и чувства? К месту его, по сути, о т с у т с т в и е здесь, возле отцовской квартиры? Он будто и сейчас отсутствует, когда тело уже привезли. Все нелепо, все как-то пугающе нелепо. И сама смерть отца нелепа, внезапна и страшна…
Мирошников мешкал, надевая пальто, запахивая шарф. Нахлобучил и снова снял шапку. А может, вообще надо раздетым пройти через площадку, одежду — в охапку? О чем думаешь? Как ведешь себя? Даже не суетишься — кривляешься. Кривляешься перед собой, как перед зеркалом.
Ненароком взглянул в зеркало на стене прихожей: бледный, волосы растрепанные, лоб потный, глаза блуждающие. Вид! Но нужно держать себя в руках. И поменьше философствовать, побольше поступков, осмысленных и спокойных.
— До свидания, Аделаида Прокофьевна. Надеюсь видеть вас на поминках, — сказал Мирошников и шагнул к выходу.
На лестничной площадке гуляли колючие сквозняки. Лифт ушел, и дверь в отцовскую квартиру была закрыта. Так быстро занесли гроб? Или так долго копался в прихожей Аделаиды Прокофьевны? Копался, суетился, думал о постороннем, но не всегда зряшном. Думал ведь он и о серьезном! И пока Мирошников неверным, качающимся шагом преодолевал пяток метров, он понял: разное было в мыслях — и пустяковое и важное, такая вот мешанина, такой винегрет. Наподобие того, каким потчевала Аделаида Прокофьевна. Человек умер, а угощают винегретом. А чем же угощать? Ананасами? Ничем. Ничего не надо. Ни еды, ни питья, ни слов, ни мыслей. Однако, увы, все было и все будет. И он, Мирошников, будет таков, каков был и есть?
Открывший Мирошникову дверь мужчина в дубленке-гусарке и с непокрытой плешиво-седой головой ни о чем его не спросил, посторонился, пропуская. Мирошников прошел вглубь, будто расталкивая людей, хотя в действительности никого не коснулся. Не исключено, люди отступали с его пути. Из комнаты, куда он направился с непонятной решимостью, выкатился полненький, кругленький старичок в пенсне и спросил робко:
— Вы кто? Из ЖЭКа?
— Я сын покойного, Вадим Алексаныч, — Мирошников всегда произносил отчество твердо, не усекая, — Александрович, а на этот раз как бы проглотил слог.
— Вадим Александрович? Позвольте представиться, так сказать, очно: Синицын Петр Филимонович.
Мирошников поклонился, затем пожал пухлую, вялую кисть. Петр Филимонович засуетился, почему-то виновато развел руками, словно говоря: я не виноват, что так получилось, — ваш отец умер, теперь лежит в гробу, а в его квартире мельтешат чужие вам люди. И Вадим Александрович развел руками: дескать, извините и вы меня — растерян, скомкан, постараюсь, однако, вести себя вполне нормально.
И опять возникло ощущение: вовсе все ненормально, и будет еще ненормальней, когда он вступит в комнату и увидит отца мертвым. А когда в последний раз видел его живым? Не помнит. И было еще ощущение: переступив порог той комнаты, он как бы отчалит от берега жизни и поплывет на лодке к берегу, на котором жизни уже нет. Но он волен переплыть эту черную реку обратно, вернуться, а отец не волен. В этом вся разница.
У Мирошникова слегка закружилась голова — лодку-плоскодонку стремительно несло по черной неподвижной воде, все стремительней и стремительней, но без единого всплеска, — он прикрыл глаза, преодолевая головокружение. Открыв их, снял пальто, повесил на крючок вешалки, пригладил ладонью вихор на затылке. Услышал:
— Понимаете, Вадим Алексаныч, здорово сварганилось: вскрытие… ну и прочее… наформалинили… одели… В темпе! Подмазал я кого следует! А то канитель бы на пару деньков, не меньше… Пришлось раскошелиться… — Говорили шепотком, но четким, рубленым каким-то. Мирошников обернулся. Говорил плешиво-седой мужчина в дубленке-гусарке. — Моя фамилия — Голошубин… Я из адмхозчасти. Понял?
Не удивившись, что работник адмхозчасти называет его — Алексаныч и на «ты», Мирошников ответил:
— Понял, товарищ Голошубин.
— Это хорошо, что понял. Стараемся, как видишь. Во главе с профессором Синицыным.
«Голошубин, — подумал Мирошников. — Что это значит — Голошубин? Он же в дубленке…»
Встряхнув головой, Мирошников вошел в комнату вслед за Синицыным, который сделал разрешающий жест. Меньше всего Вадим Александрович ожидал этого: гроб закрыт. И он вздрогнул сильней, чем вздрогнул бы, если б увидел лицо отца. Так была неожиданна обитая красной материей крышка, которая словно мешала отцу выйти из деревянного ящика и отправиться по своим делам — в институт, в магазин или на прогулку.
Профессор Синицын, Петр Филимонович, сделал то же разрешающее движение пухлой ручкой, и дюжие парни, физиономии которых расплывались в глазах Мирошникова, поддели крышку то ли ножами, то ли отвертками, сняли ее и прислонили к стенке.
Черты отца вдруг приблизились к Мирошникову настолько, что он даже подался назад. Со стороны: испугался. Но он не испугался, просто ему подумалось: не вблизи, на расстоянии, лучше рассмотрит родное и чужое — мертвое — лицо.
И он, сжав губы и склонив голову, рассматривал это лицо: веки опущены, на них и на лбу синеватые пятна, сухая морщинистая кожа обтянула выпирающие скулы, нос заострившийся, а рот провалился, щеки как будто втянуты, волосы совершенно белые, таким седым отец при жизни не был; руки, крупные, узловатые, сложены на груди, как будто отец готовился помолиться, неверующий. А еще более похоже — прикрывает трехпалую, покалеченную на войне руку невредимой, так он и в жизни прикрывал, словно бы стыдился.
Одет в темно-синий старомодный костюм, белую рубашку с наглухо застегнутым воротом, обут в желтые туфли на толстой микропорке, такие тоже давно не носят: и костюм, и туфли, и рубашка были новенькие, ненадеванные. Ждали своего часа.
У плеча Мирошникова сказали: