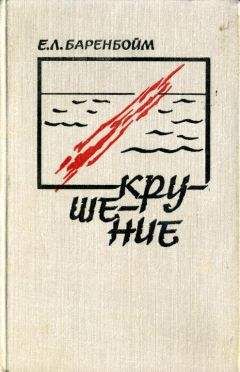Когда на набережной зазвенели трамваи и появились первые прохожие, она спустилась к Днепру, смыла грязь с пальто и обуви, прошла по Подолу до Андреевского спуска и благополучно вернулась домой. Два дня спустя ее встретил Никита.
— Сиди завтра дома, — посоветовал он. — Большие облавы будут в городе. Рассердились немцы. Говорят, в Дарнице крушение поезда партизаны устроили, на Сырце элеватор сожгли, а на Владимирской горке какая-то сука повешенных поснимала.
…Осенью, дней за десять до ноябрьских праздников, умерла Доморацкая. До войны они не очень дружили, хоть и виделись довольно часто. Все в Доморацкой казалось Марии странным, чудаковатым, не от мира сего. Начиная от имени Констанция, непрерывного чтения книг и выписки из них цитат, до потрясающей рассеянности. Доморацкая могла вторично принести деньги, забыв, что уже расплатилась. Могла забыть в кармане жакета дорогую брошку. Однажды вышла на улицу в сорочке и кофточке, не надев юбки. Ее доверчивость и непрактичность повергали Марию в ужас.
Но Мария вскоре поняла, что за всеми этими чудачествами скрывалась душа бесхитростная и благородная, доброе сердце. Она очень привязалась к Доморацкой, привыкла ничего не скрывать от нее. По сути дела только она была для Марии единственным другом.
За несколько дней до смерти Доморацкая сказала Марии: — Знаете, Манечка, у меня не осталось никаких сил. Чувствую, что скоро умру. Прошу вас только не бросайте Марсика. А мои тетради с записями положите со мной в могилу. Я и там их буду читать, — она слабо улыбнулась.
Когда она умерла, сосед по дому мрачный неразговорчивый старик разломал на доски чудом уцелевший комод красного дерева, сколотил гроб. Вместе с ним Мария отвезла на тачке Доморацкую на кладбище. Марсика она взяла себе. Пушистая маленькая собачонка быстро привязалась к Марии, и они засыпали вместе под одним одеялом.
В конце июня 1943 года Мария на толкучке попала в облаву. До сих пор ей удавалось избегать облав. Занимаясь своими торговыми операциями на барахолке в районе Нижнего Вала на Подоле, она всегда была настороже и держалась поближе к боковым улочкам и проходным дворам. Завидев приближающуюся с разных сторон пылящую вереницу грузовиков, Мария немедленно ныряла в ближайший проулок. И успевала сделать это минутой раньше, чем прыгающие с машин полицаи образовывали плотное кольцо. Ее хваткости и увертливости мог позавидовать профессиональный разведчик. Но на этот раз она увлеклась торгом и заметила грузовики слишком поздно. От мобилизации на работы ее спас счастливый случай.
За неделю до того злополучного воскресенья Мария заразилась чесоткой. Тогда в Киеве многие страдали этой мучительной хворью. Лекарств не было. Чтобы избавиться от нее, по совету знакомой старухи Мария несколько раз натерла тело керосином. Зуд не проходил, зато расчесы покрылись струпьями. От одежды воняло. Молоденький немецкий вахмистр, едва касаясь двумя пальцами, взял паспорт, заглянул в него, потом посмотрел на Марию, брезгливо поморщился:
— Называется женщин, — сказал он и вытащил из кармана носовой платок. — Пусть идет прочь. Шнель, шнель.
Не чуя под собой ног, Мария бросилась домой. Что бы делала Галя, если бы ее задержали? Ведь уходя, она, как обычно, заперла дверь на большой висячий замок. Пришлось бы выбираться на улицу через окно. А оно не открывается.
Девушка жила у нее второй месяц.
Как-то днем раздался стук в дверь. Мария глянула через щель и сразу узнала: Галя, ее бывшая ученица. Одета по нынешним временам прилично — ситцевое платье, жакетка, косынка в горошек, а на ногах туфли на каблуках.
— Признаешь, Маруся? Я к тебе. Не прогонишь?
Мария обрадовалась ей. Последнее время она очень остро ощущала свое одиночество. Галя ей всегда нравилась. Не любила только ее ухажера Гришку. Из-за него и расстались. С тех пор Галя пропала. Иногда Мария вспоминала ее, думала с обидой: «Могла б зайти, навестить. Учила ее, кормила, спали вместе в одной кровати. Вот люди какие неблагодарные». Но сейчас и не подумала об этом, так была ей рада.
В тот первый день Галя не спеша пила морковный чай без сахара, рассказывала:
— Как пробралась в Киев, первым делом пошла к дому, где мы с Гришей снимали угол. Гляжу, а там теперь немецкое учреждение, часовой стоит. Дай, думаю, к Марусе загляну. Может, и не уехала никуда, приютит на первое время, не прогонит.
— И правильно, что пришла, — подтвердила Мария. — Живи, мне не жалко. Глядишь, туточки мы с тобой и наших дождемся.
О своей жизни Галя рассказывала скупо:
— За два года до войны вышла замуж за Григория. Гриша плотничал на заводе Письменного, я училась в техникуме. А как началась война и Гриша ушел на фронт, закончила курсы медсестер и тоже за ним подалась. Служила в медсанбате, была ранена. — Галя приподняла платье и показала на бедре звездчатый рубец от осколка.
— А потом?
— Потом попали в окружение под Кременчугом. Продержали нас, женщин, в лагере недолго. Отпустили в окрестные хозяйства помогать в уборке урожая. Работала там, жить ведь надо было. Две зимы промучилась, а больше не выдержала, решила в Киев податься.
— Не пойму, зачем тебе Киев сдался? — недоумевала Мария. — Отсюда сколько людей в село ушло. И спокойнее там и сытнее. А здесь без документов опасно. И молодая ты. В облаву попадешь и быстро в Германию загремишь.
— Нельзя было больше оставаться. Немцу одному понравилась. Даже свататься хотел. Не верил, что я замужем. У меня в паспорте штампа не было. А сам старый и жирный, как боров.
Галя умолкла, снова принялась за морковный чай.
— У немца твоего губа не дура, — засмеялась Мария и подумала, что несмотря на худобу, на все выпавшие на ее долю испытания, Галя за эти годы еще больше похорошела. Только в больших глазах появилась печать какой-то тревоги, заботы. — Раз такое дело — хорошо, что сбежала.
И все же вид белых не тронутых деревенской работой Галиных рук, незагорелое лицо, ее скупой и крайне сдержанный рассказ о полутора годах, проведенных в селе, — посеяли в душе Марии смутное сомнение, недоверие к ее словам.
«Брешет чего-то, темнит девка, — подумала Мария. — Однако посмотрю, понаблюдаю, что дальше будет».
Каждый житель Киева понимал, что страшное время оккупации близится к концу. Это чувствовалось по множеству признаков. В памяти киевлян еще живы были захлебывающиеся от восторга немецкие сообщения лета 1941 года:
«Гигантские достижения немецких войск в боях на плацдарме нижнего течения Днепра. Выдающиеся успехи под Ленинградом. Полтава занята. Над цитаделью Киева с сегодняшнего утра развевается победоносное немецкое знамя».
Теперь хвастаться было нечем. Все чаще писалось о растянутости коммуникаций, перегруппировке войск, осеннем бездорожье. Сводки Главной квартиры фюрера, периодически публикуемые в «Новом украинском слове», становились все туманней и расплывчатей. Двадцать третьего августа газета писала:
«Успешные немецкие контратаки на центральном участке фронта. На южном участке фронта к востоку от узлового железнодорожного пункта Ахтырка происходят упорные оборонные бои, которые продолжаются. Безо всяких препятствий со стороны врага оставлен город Харьков после полного уничтожения всех важных военных сооружений».
— Слышь, Галю, наши Харьков отбили! — сообщила Маруся радостную новость. — Скоро здесь будут.
— Откуда известно? — не поверила Галя.
— В газете, говорят, написано.
Немного поутихли и многочисленные немецкие прихвостни. Даже Никита при удобном случае стал поругивать «этих поганцев», этих «чертовых фрицев».
Мария решила заручиться поддержкой Никиты. Понимала, что Гале долго жить незамеченной в ее комнатке, выходящей на людную улицу в центре города, невозможно.
— Эти злыдни полицаи сейчас все хотят хорошими быть, — объяснила она девушке, — а если еще хабара дадим — ручаюсь, что не выдаст.
Она пригласила Никиту, выставила на стол стакан красноватого свекольного самогона.
— Посоветоваться позвала вас, Никита Лукьяныч, — сказала Мария, и Галя подивилась ласковым интонациям ее голоса. — У нас ум женский, у вас мужской, да и положение ваше…
— Какое там положение, — поморщился Никита. — Коммунисты придут — быстро сук разыщут.
Он одним махом выпил весь стакан, крякнул, закусил помидором.
— Что у тебя?
— Племянница из села приехала. Нельзя было больше терпеть от нахального старосты. Проходу ей буквально не давал.
— Документ есть? — спросил Никита.
— Какой документ? — сказала Мария. — Был бы хороший документ — не просила бы вашей помощи.
— А ну покажи.
Галя протянула ему написанную от руки на тетрадном листке справку об освобождении из лагеря, датированную августом сорок первого года.