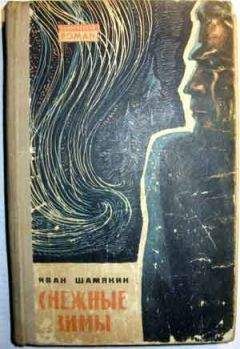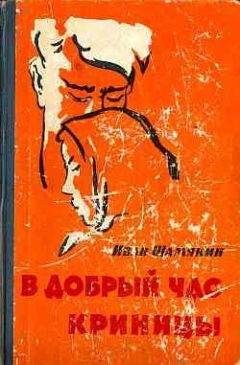Тогда же, летом еще, сказала о своем желании матери. Удивила меня мама чрезвычайно. Она испугалась. Прямо побелела. Даже дыхание перехватило. Не отговаривала. Но таким голосом попросила не спешить, подумать, что мне стало холодно в жаркий день. Ничего не понимаю и до сих пор. Прожила с матерью двадцать три года и, выходит, не знаю ее. Партизанка, подруга прославленного комбрига, о котором в книгах пишут, — за книгами такими ты очень следишь, мама! — и вдруг пугаешься, когда дочь собирается совершить такой серьезный шаг. Не вольнодумство же какое-нибудь!
Может быть, тебя страшило, что я не знаю, кто мой отец, и должна буду написать ту ложь, которую ты сочинила для меня, когда я была маленькой? Короче говоря, охладила меня тогда мать. А потом приехал Олег, я увлеклась им. Стоп! Что такое? Раньше ты называла свое чувство к нему любовью. Теперь — только увлечением? Ах. боже… Ну, любовь, любовь. Ну, треснуло что-то в груди… Не очень и больно. «До свадьбы заживет», как говорит наша техничка Одарка. Заносит меня сегодня что-то в воспоминания. Возвращаюсь к главному.
Вчера перед репетицией Толя вдруг свалил мне на голову снежную гору. С ним это часто случается. «Виталия! Все в порядке! В райкоме я договорился! С парторгом тоже. Кроме комсомола, рекомендации дают Ганкина и Сиволоб. Оформляйся скорей. Только Лесковец просил зайти побеседовать».
Стояла я не то что ошеломленная — очумелая и хлопала глазами.
«Толя, дорогой. Так же не делается».
«Как так?»
«Да так».
«А как делается?»
«Да рекомендации я сама должна просить. У людей, которые меня лучше знают».
Толя, когда говорит о делах, да еще на людях, смел до бестактности.
«А ты сама и попросишь. Я за тебя просить не буду». «Но ведь ты уже попросил».
«Ну, знаешь, плохой бы я был секретарь, если б пустил на самотек…»
«А если я не хочу, чтоб эти давали».
«Ты что, ошалела? Запомни: в партии все равны. И если коммунисты — с таким стажем! — согласны рекомендовать тебя, скажи им спасибо. Нечего делить людей по тому, нравятся ли тебе их носы или не нравятся».
«Не носы — работа их, поведение».
«Это разговор особый. Будешь иметь право критиковать любого члена партии — скажешь об их работе».
Вот таков он — наш Йог. Один раз как будто формалист, другой — настойчив до нахальства, а в иных обстоятельствах, как в те вечера на лугу, двух слов связать не может; на деле же — душевный парень: веселый, живой, честный до наивности. После разговора на репетиции появилась у меня — ей-богу, правда — шальная мысль. Теперь, через сутки, самой смешно. А вчера, глядя на него в роли, я совершенно всерьез мысленно попросила:
«Толя, дорогой мой, признайся мне в любви, посватайся — и я тут же выйду за тебя замуж».
Ты порадуешься, мама, прочитав это? Не радуйся. Ничего не выйдет. Это так — брожение чувств, шалости ума. Люблю я все-таки Олега, и тебе, дорогая мамочка, наверное, придется назвать его зятем. Я терпеливая. Подожду. Ох, и расписалась я сегодня однако! Интересное это занятие — писать дневник. Как будто еще раз переживаешь то, что записываешь. Но переживаешь уже не стихийно — сознательно. И тогда кое-где начинаешь хитрить сама с собой. Этакая игра в прятки.
Каникулы. Дни тянутся скучно и однообразно. Возила своих воспитанников на районный смотр школьной самодеятельности. Но выступили мы неудачно, мало радости доставило это и мне и ребятам. Ребят угнетала бедность наших костюмов. В других школах — шик. Откуда они деньги берут? Вернулась злющая. На педсовете докладывала так, что мама опять испугалась за меня. Директор краснел и бледнел. Учителя сидели потупившись. У одной Адалины глаза горели, как у тигрицы, которая почуяла, что можно вырвать у соперницы добычу.
Мама и Олег, вдруг став единомышленниками, целый вечер корили меня и доказывали, что нельзя так вести себя на официальных собраниях, что нужен такт, рассудительность, чувство меры и так далее, и так далее. Все меня учат — надоело. Но не стала спорить. Пускай думают, что я раскаиваюсь, и утешаются. Только так можно успокоить маму.
Теперь каждый день — лыжи. Единственная радость. Хожу больше с учениками. Изредка — с Олегом. Он наконец научился немного. Когда идем с Олегом, нарочно прохожу мимо Адалининого дома. Представляю, как она шипит. Вздумала как-то пригласить Толю, хотела пройти с ним мимо школы. Как бы посмотрел на это мой верный рыцарь? Да Толя вовсе замотался. Замахал руками, закричал:
«Ты шутишь? Думаешь, у меня есть время прогуливаться? Я рабочий человек, а не лодырь какой-нибудь!»
Дурень. Как будто рабочему нельзя походить на лыжах, да еще с девушкой, которая нравится. Ох, горе мне с тобой, Толя. Если б с девушками ты был так активен, как в работе! Ты мог бы кого-нибудь сделать счастливым. Тогда, сразу же, когда мы после посещения Сиволобов ходили с П. В. по улице, и несколько дней после его отъезда мне так хотелось съездить и познакомиться с его семьей — с сестрами моими. Кружила голову мысль, что у меня есть сестры и брат. Ходила, как пьяная. Но любой хмель выветривается. Приходит трезвость. Желание понемногу остыло. Только теперь, па каникулах, вспыхнула искра в потухшем костре, пробилась сквозь слежавшийся пласт пепла.
Сказала маме. И она… опять испугалась. Что такое? Мамочка, милая, что с тобой? Так умоляла не ехать, что мне стало стыдно, как будто я нарочно издеваюсь над близким человеком. Должно быть, маме хотелось добиться обещания, что я никогда туда не поеду. Ну нет! Такого обещания я не дала. И не дам! Съездить к И. В. я должна. Непременно!
…Наконец окончились каникулы. Работать веселей.
Сегодня перед занятиями в учительской появилась Маша Сиволоб. Вошла непринужденно, без смущения, красивая, как богиня. Даже Адалина перед ней померкла. Все удивились. Но Олег объяснил — представил:
«Наша новая преподавательница — Мария Марьяновна Сиволоб. Районо, в качестве эксперимента, разрешило для девочек восьмых классов ввести в политехническое обучение вторую специальность — кройку и шитье. Не одни доярки и телятницы нужны. Мария Марьяновна — художник-модельер. Специалист высокого класса. Ей передаются все часы рисования. Приказ подготовлен. Прошу любить и жаловать нового члена нашего коллектива».
Марья Марьевна — ученики сразу так ее окрестили, и я пишу по инерции — снисходительно оглядывала коллектив, в который вступала. У преподавателей были постные физиономии. Корней Данилович очень смешно икнул — хакнул как-то, словно подавившись костью. Но никто не засмеялся. Меня сперва разве что одно разозлило — что тип этот, Олег, драгоценный мой, даже мне ни слова не сказал о том, что устраивает в школу Сиволобиху. Тайком да тишком. Но я рада, что Маша к нам пришла. Это же здорово! У нас появятся свои портнихи, модельеры. Сошьем наконец костюмы для самодеятельности и не будем чувствовать себя голодранцами среди богатеев. В самом деле, сколько можно готовить доярок? Коров на всех не хватит. Да и что учить наших девчат этой профессии? Они сызмала умеют доить. У нас есть неплохо рисующие мальчики. Наконец-то с ними будет заниматься человек, который что-то понимает в искусстве, обладает вкусом. Она покажет им свою коллекцию картин.
Так я примерно рассуждала, давая уроки. Конечно, подогревая при этом обиду на Олега, чтоб не остыла, готовилась к веселенькому разговору. Вышла из школы вместе с мамой. И — о боже! — давно не видела я маму такой возмущенной. Она даже не постеснялась употребить слово, которого я никогда раньше от нее не слышала. «Дерьмо, — говорит, — твой Олег Гаврилович, а не директор. Мелкий подхалим. Чтоб устроить жену директора совхоза, он отнимает кусок хлеба у детей. Их четверо. Сам Корней Данилович инвалид. Легкие прострелены».
Попыталась я защитить Олега:
«Да не умеет же рисовать Корней Данилович. Чему научит такой учитель?»
«Учит. Много лет. Сходи на его уроки физики». «Так пускай и преподает физику».
«Легко тебе рассуждать! Сколько он будет иметь часов, если их, физиков, двое? Посидела бы с такой оравой на одной ставке».
«Мама! Ты же словесница! Сколько говорим об эстетическом воспитании! А рисование и пение отдаем — кому часов не хватает. Да не богадельня же школа. Не собес».
Переубедить маму невозможно. Она все еще не может успокоиться. После обеда сказала:
«Иди ты к этому… директору. Сделай так, чтоб он сегодня к нам не приходил. Не желаю видеть его физиономии! А то, если я сорвусь и выскажусь, больше он сюда не явится».