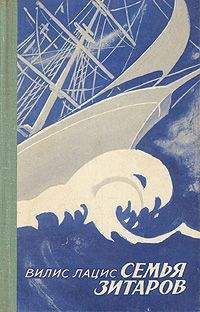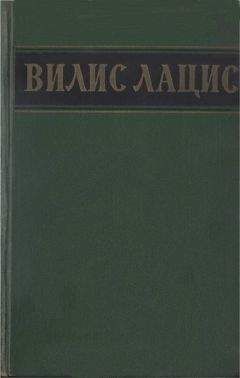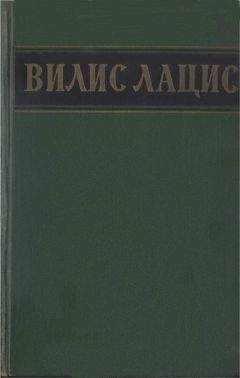Из Испании судно направилось через Атлантику в Рио-де-Жанейро. И вот в один субботний вечер… Еще и теперь у меня замирает сердце при воспоминании об этой первой баталии. Матросы ушли на берег, все были свободны; боцман, штурман и кок расхаживали по палубе бритые, в новых костюмах. Я тоже надел чистое белье, новую спецовку и повязал шею зеленым шелковым платком, потому что у меня было такое же право на субботний отдых, как и у всех остальных. Но кок имел по этому вопросу особое мнение, боцман с ним согласился, и на свою беду присоединился к ним и штурман. Вероятно, мой праздничный вид портил им настроение.
— Джонка, вымой бочку из-под селедок! — приказал мне кок. — От нее идет такое зловоние, что отравляет весь воздух в кладовой.
Этого еще не хватало! Чтобы я возился с грязной бочкой и перепачкал чистую одежду селедочным рассолом!
— Этим, кокочка, ты сам займись, — обрезал я его. — Запустил бочку, сам я чисти ее, а у меня свободный субботний вечер.
— У тебя, наверно, спина соскучилась по этой штуке? — боцман показал мне узловатую судовую «кошку».
— Неизвестно, у кого больше соскучилась, — вызывающе рассмеялся я. — Ты, боча, давно в бане не был, тебе как раз и годится.
К нашему разговору уже прислушивался и штурман. Все трое сошлись вместе и о чем-то посовещались. Выражение их лиц не предвещало ничего хорошего. Несчастные, они забыли, что Джониту Бебрису уже не пятнадцать лет, а полных восемнадцать и что в испанском кабачке он один побил троих, да к тому же просторная судовая палуба — гораздо более удобная арена для борьбы, чем тесное помещение кабачка. Штурман взял кофель-нагель, боцман — «кошку», а кок, как ему и полагается, направился на меня с кочергой. Я знал, что драка с оружием в руках налагает на дерущихся большую ответственность за могущие быть последствия, поэтому кинулся в бой с голыми руками. «Несчастные», — думал я, наблюдая, как противники собираются окружить меня с трех сторон. Я дрожал, но не от страха, а от радости, ибо почувствовал, что наступил час расплаты. Заныли по всему телу синяки и ссадины, полученные мною за это время. Все бранные слова, адресованные мне за прошедшие три года, звенели в ушах и пьянили, как крепкий джин. Тогда били меня, теперь буду бить я. Тогда стонал Джонит, теперь заохают они! И никто не посмеет меня обвинить, потому что они сами этого захотели.
— Выбирай, на которую сторону будешь: падать! — крикнул я боцману. — Положи под бок подушку, чтобы не расшибиться. А ты, кокочка, не пугайся и не думай, что тебя лошадь лягнула, если почувствуешь что-либо похожее:
Минуту спустя дело шло полным ходом. Коку хватило двух тумаков. Взвыв и схватившись обеими руками за живот, он опустился на палубу, из носа хлынула кровь. Кофель-нагель штурмана полетел за борт, а боцманская «кошка» взвилась на такелаж и повисла на вантах. Вскочив на люк трюма, я схватил штурмана и боцмана за волосы и стал стукать их лбами: бух, бух, так что у приятелей искры посыпались из глаз и на лбах вскочили огромные шишки. По временам я их встряхивал, как бутылки с простоквашей или пыльные полушубки, затем опять стукал лбами. После каждого удара они крякали, как дровосеки. Под конец оба настолько обалдели, что, когда я их отпустил, они шатались и, наткнувшись на мачту, ушиблись еще лишний раз. Лбы их, украшенные шишками, выглядели очень забавно, и я громко хохотал. Я хотел было еще раз подойти к коку, но он со страху удрал в камбуз и, высунувшись в окошечко, взмолился:
— Джонит, я ведь просто так, пошутил. Неужели у тебя рука подымется на старика?
— Ничего себе старичок нашелся! — крикнул я, стращая его. — Мужчина что бык, а боится юнги. Выходи, или я тебя вытащу за чуб!
Но он закрылся на засов, а ломиться в камбуз мне не было времени. Повернулся я к обоим бодливым козлам и спрашиваю, хотят ли они еще, чтобы я мыл бочку из-под селедок. Нет, они на этом уже не настаивали. Скрипя зубами, они потащились в свои каюты, а я, сложив свой мешок, с наступлением темноты убрался на берег. Оставаться мне на этом судне уже нельзя было:
Пока судно стояло в порту, я прятался в городе, затем устроился трюмным на «англичанине» и шатался по белу свету еще четыре года. За это время я сменил шесть или семь судов, ходил на бельгийских, норвежских, голландских и датских кораблях. Иногда — на палубе в качестве матроса, но больше внизу, особенно зимой или когда приходилось идти в северные моря. Вскоре я стал полноправным кочегаром, затем дункеманом и одно время — смазчиком на голландском лайнере. Я больше не уступал дорогу никому, каким бы сильным и большим он ни был. Никто уже не осмеливался бить меня или бранить, а я, лишь только замечал на судне появление какого-нибудь забияки, сразу же обламывал ему рога. Конечно, ангельского в моем характере мало, у меня всегда руки чешутся въехать в чью-либо хвастливую морду, сварливость и неуживчивость — мои неизменные спутники. Меня нигде долго не терпели. Всегда почему-то получалось, что после каждого рейса мне приходилось собирать свой мешок и идти в бичкомеры.
Привыкнув к этому, я впоследствии и не стремился оседать на одном месте, не боялся насолить товарищам и начальству и жил вольной птицей. Тогда я еще был терпимым парнем. Временами даже подумывал о доме, о тихом, уютном уголке, куда могу в любое время вернуться, отряхнув с ног мирской прах, и зажить новой жизнью. Проскитавшись семь лет на чужбине, я почувствовал, что мне надоели беспокойные похождения, хотелось перевести дух, угомониться. И я надеялся, что найду этот отдых дома, найду тепло и радость. Я воображал, что там все осталось по-прежнему. Мать в письмах давно звала меня домой, писала, что ей не справиться с трактиром, и обещала передать все в мои руки.
В конце концов, я послушался, больше, пожалуй, подчиняясь властной тоске по родине, чем зову матери. В Лондоне я сел на пассажирский пароход и отправился домой. За семь лет я не скопил денег, моим единственным приобретением была кое-какая одежда, хорошие карманные часы и очень большой жизненный опыт. Кроме того, я знал три иностранных языка, и если все это оценить должным образом, то следует сказать, что я возвратился не с пустыми руками. Но представляешь себе: я очень устал, скитания по чужбине мне надоели, не прельщали, как бывало, всякие заморские чудеса, мальчишеская страсть к приключениям была удовлетворена, беспокойство улеглось, и мне хотелось серьезно и честно трудиться во славу своей семьи и на благо родного городка. Если бы я вернулся домой в более счастливый момент, немного раньше или, наоборот, позже, то сейчас мне не пришлось бы ссориться с чифом «Пинеги», я нашел бы в городке богатую невесту, женился и начал заниматься своим делом. Но, видно, не суждено было осуществиться моим намерениям. Досадная мелочь поставила крест на всех моих замыслах.
Ты знаешь, как неудобно сообщение с нашими провинциальными местечками и городами, если они не расположены у железнодорожной магистрали. От Риги мне пришлось дать большой крюк на север, там пересесть на поезд узкоколейки и сойти на одной из маленьких станций, от которой до нашего городка оставалось еще восемнадцать верст по проселочной дороге. Направление — обратно в сторону Риги. С большим трудом разыскал крестьянина, который за четыре рубля серебром согласился доставить меня в городок. Когда мы выехали, уже смеркалось. Лошадь была не из горячих, возница — не в меру болтлив, и меня утомляло его назойливое любопытство. Чтобы отделаться от него и заставить его уделять больше внимания езде, я ничего о себе не рассказывал, ведь он, по всей вероятности, знавал моего отца и из уважения к покойнику замучил бы меня всякими мелочными расспросами. Моя замкнутость и односложные ответы не уменьшили, однако, любознательности возницы, и так мы продолжали ехать часа четыре, один — нескончаемо стрекоча как сорока, другой — цедя изредка по слову сквозь зубы и ругая себя за то, что избрал такого возницу. Как видишь, настроение мое было уже заранее испорчено, нервы напряжены до предела, поэтому при моем характере достаточно было малейшего пустяка, чтобы вызвать взрыв. Случись это в пути, было бы лучше. Тогда бы я до приезда в город успел разрядиться и вместо тигра домой явился бы кроткий ягненок. Но не тут-то было…
— Где же молодой человек намерен остановиться? — осведомился возница, когда впереди показались огни городка.
— Там видно будет… — неопределенно буркнул я.
— Мне бы все-таки надо знать, куда подъехать. Здесь есть одна гостиница и два постоялых двора…
— Я остановлюсь у родственников.
— Так, значит, у вас здесь и родственники есть? Прошу прощения, а на какой улице они живут?
— На Большой улице.
— Та-ак? И позволено будет узнать вашу фамилию?
Я сделал вид, что не слышал вопроса, но он повторил его. Тогда я назвал ему первую попавшуюся на ум фамилию и велел остановить лошадь в конце Большой улицы.