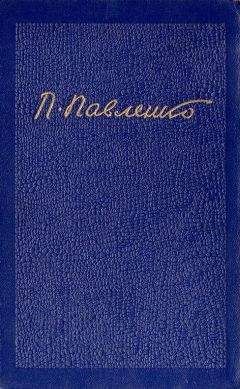Теперь комната с венецианскими окнами встречала его как хозяина и казалась радушной, уютной. Он звонил домой: «Мамуся, как ты себя чувствуешь? Тебе ничего не нужно? Я задержусь в редакции, очень много работы. Я и обедал, и ужинал, не беспокойся». Затем он зажигал настольную лампу, выкладывал на стол блокнот и колдунчики-справочники и писал, стараясь черкать поменьше, так как в утренней смене работали наборщики средней руки, а материал уходил в типографию неперепечатанным, — «Маяк» все еще не обзавелся второй машинисткой.
Время шло, стопка исписанных полосок типографской бумажной обрези росла. Понемногу, в тишине, в безмолвии, Степаном овладевало ощущение сдержанного внутреннего кипения, хорошо известное журналистам, привыкшим работать ночью. Все задуманное и сделанное в городе за день было вот здесь, в заметках, маленьких статейках, небольших зарисовках — вся полнота, все многообразие жизни, набиравшейся день ото дня сил и красок. Даже мелкие факты, едва заметные былинки жизни, мимоходом отмеченные в блокноте, соединившись и позаимствовав друг у друга силу, приобретали значительность, весомость. Раскрывались новые явления, возникали новые вопросы — дыхание большой жизни в малом.
Оторвавшись от стола как бы для того, чтобы размяться, но в действительности для того, чтобы продлить радостное ощущение открытия, находки, Степан прохаживался по комнате, напевая, затем снова усаживал себя за стол. В один из таких счастливых вечеров появилась богатая фактами и окрашенная скрытым задором статья «Улучшаем рабочие здравницы» — о начавшемся курортном строительстве, оплаченная по распоряжению Наумова двойным гонораром. Другой вечер дал рубрику «На советской улице» — прямой ответ пакостникам, лгавшим в константинопольской белоэмигрантской печати о запущенности, развале советских городов. Заметки в две-три строчки говорили о коммунальном строительстве, о балконах, увитых зеленью, о вновь заасфальтированных тротуарах, о нарядных витринах кооперативных лавок…
Около полуночи являлся Пальмин со свежими оттисками только что сверстанного номера газеты, бросал один оттиск на стол Степана, забирал у него все написанное и заваливался в кресло. Просматривая напечатанную информацию, проверяя фамилии, даты и цифры, Степан в то же время краешком глаза следил за Пальминым, читавшим его материал, радовался, если Пальмин одобрительно посвистывал, настораживался, когда тот начинал кряхтеть, чмыхать носом и переваливаться в кресле с боку на бок. Кончались эти вечера тем, что Степан и Пальмин позволяли себе одну-две шахматные партии.
— Да, тебе приходится солоно, — говорил Пальмин. — Но скоро вернется Гаркуша… Может быть, Борис Ефимович найдет в Москве для «Маяка» пару приличных репортеров, — ты получишь отпуск и сможешь вознаградить себя за нынешнюю баню. Прокатись по южному берегу, развлекись.
— Вряд ли удастся… Мама чувствует себя неважно.
— Но тебе нужно на время переменить обстановку. Незачем превращаться в аскета. Бери пример с меня…
Пальмин сладко потягивался, его глаза затуманивались; начинался рассказ без имен и фамилий о последних удачах Пальмина, успешно ухаживавшего за московскими дамами, приезжавшими лечиться от полноты.
В один из таких вечеров Степан предложил Пальмину для четвертой полосы «Разговор» Мишука о лавках частных и простофилях несчастных. Неудача и провал! Читая «Разговор», Пальмин выразил свое неодобрение целой серией междометий — пренебрежительно экал, гмыкал, кряхтел и охал.
— Ты серьезно предлагаешь это в газету? — спросил он. — Базарный лубок в три краски. Красное, белое, черное, и ничего больше. Что-то напоминающее тертую редьку с квасом, кушанье, совершенно неприемлемое для культурного желудка. Удивляюсь! Мишук, как ему и пристало, сбивается на раек, буффонаду, а его шеф, его воспитатель Киреев рад и доволен. Протри глаза…
— Лубок? — вздыбился Степан. — Кому нужно протереть глаза: мне или тебе? Смотри, какой у него говор: сочный, яркий. А знание жизни? Увидишь, как примут «Разговор» рабочие.
— Ах да, рабочие… — протянул Пальмин. — Аргумент сильнейший, что и говорить. Но ведь литературный вкус рабочих тоже надо воспитывать, как ты думаешь? Чем? Хорошим фельетоном, очерком, рассказом, стихами…
Каждый остался при своем мнении, и «Разговор» Мишука вернулся в ящик письменного стола Степана. Показать его Наумову? Но редактор почти все время проводил в разъездах, руководя исследованием о положении в сельскохозяйственных районах округа, и, кроме того, спор с Пальминым все же поколебал уверенность Степана в приемлемости нового жанра — жанра «Разговоров».
Как ни был загружен текущей работой Степан, он все же продолжал подучивать репортажу Белочку Комарову, следил за ростом Мишука. С Белочкой все было благополучно: девушка печаталась почти из номера в номер. Степан уже был уверен, что рано или поздно Наумов заберет ее в редакцию. Мишук? Как газетчик — никакого роста, но Степан счел своей победой то, что его подопечный перерос княгинь Бебутовых, их пошлые книжонки и с головой ушел в настоящие книги о жизни и о человеческом сердце. Он прочитал всего Тургенева, Гончарова, Пушкина, много Толстого, Горького и Чехова, Гюго, Мопассана, близко к сердцу принимая поступки литературных героев, горячо одобряя или нетерпимо порицая их, не желая делать скидку на историю, на эпоху, требуя от литературных героев стопроцентной коммунистической сознательности. Он мог оторвать Степана от спешной работы, чтобы сообщить ему как животрепещущую новость, что Рудин трепло, Инсаров парень стоящий, Обломову нужно бы дать принудиловку. В книгах он видел только людей, занимался их взаимоотношениями, требовал ответа на вопрос, что будет с ними за пределами книги. А слово, его красота, его сила? Судя по «Разговорам», он чувствовал и красоту и силу слова, но в книгах не замечал их, не стремился подражать прочитанному. Громадное расстояние было между тем, что читал Мишук, и между тем, как он писал.
В заметке о показательном суде над рабочим, унесшим с завода какой-то слесарный инструмент, он написал: «Пусть плачет наше сердце, но не дрогнет рука», хотя приговор по этому делу был мягкий, условный. Битый час Степан убеждал Мишука, что фраза о плачущем сердце по существу неправильная, а по форме напыщенная. Мишук выслушал своего наставника внимательно, как будто согласился с ним, а через день в заметке о мастере-грубияне заявил, что «право пролетария на уважение ограждено железобетонным блиндажом революционного закона».
— Откуда ты набираешься таких штук! — горестно воскликнул Степан.
— Сам придумываю, — ответил омрачившийся Мишук. — Чтобы красивее было.
— Читаешь прекрасные книги и все еще не видишь, что красота в простоте, в точности и силе слова.
— Ну да, в простоте! — ухмыльнулся Мишук. — Красиво напишешь — не идет; просто напишешь — тоже не идет. Черт те знает, что вам, интеллигентам, нужно!
Намек был ясный.
«В воскресенье пойду к Наумову и покажу ему «Разговоры» Мишука», — решил Степан. Но этот вопрос решился гораздо раньше.
В тот же вечер из типографии позвонил Нурин:
— Пальмин уже ушел? Миленькое дело! Оказывается, Дробышев еще утром зарезал дурацкие «Осколки» Ольгина на темы дня, и Пальмин не дослал материала. Что мне делать с дырой в сто строчек на четвертой полосе? У тебя не найдется какого-нибудь кусочка повкуснее?
— Есть!.. Пришли рассыльную, — очертя голову сказал Степан и извлек «Разговор» из стола.
Через час снова позвонили из корректорской; к своей радости, Степан узнал голос Наумова.
— Привет, Киреев!.. Да, это я. Только что приехал из района… Что это за «Разговор» вы предлагаете? Тихомиров сможет дать еще несколько «Разговоров», если мы напечатаем о лавках частных?
— У меня в столе целый ящик «Разговоров», и все на острые темы… Значит, вам понравилось?
— Форма необычная, но любопытная, доходчивая… Язык живой, крепкий… Все наборщики уже прочитали «Разговор» и зашумели. А это хороший знак! Что ж, дадим в текущий номер и подождем мнения читателей. Только напрасно вы пропустили в «Разговоре» некоторые грубости. Впрочем, я навел порядок.
Первым откликнулся… Пальмин.
— А знаешь, Киреев, — сказал утром следующего дня Пальмин, едва лишь Степан появился в редакции, — тихомировский «Разговор» выглядит в печати значительно лучше, чем в оригинале. Это бывает… Только что в редакцию звонил Тихон Абросимов. Ему тоже очень понравилось. Ты сможешь дать на завтра что-нибудь в этом же роде?
Прибежал Одуванчик.
— Гром победы раздавайся! — крикнул он. — Если бы вы видели, как на заводе и в Слободке читают «Разговор» Мишука! Он попал в самую точку! Частники Слободки бегают как наскипидаренные, домохозяйки торжествуют. Даешь рабочий кредит от получки до получки!