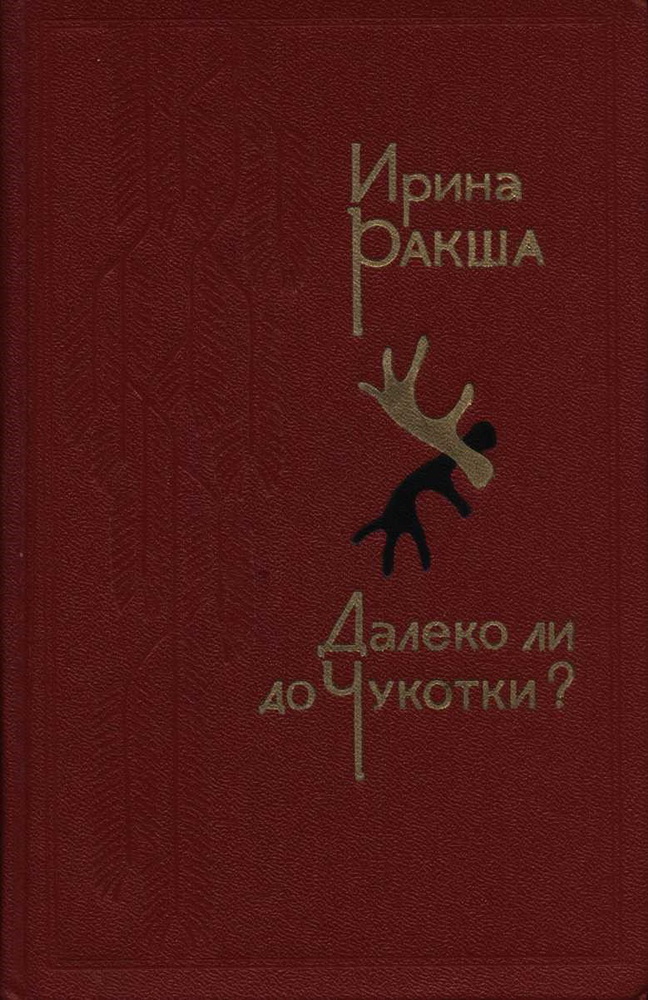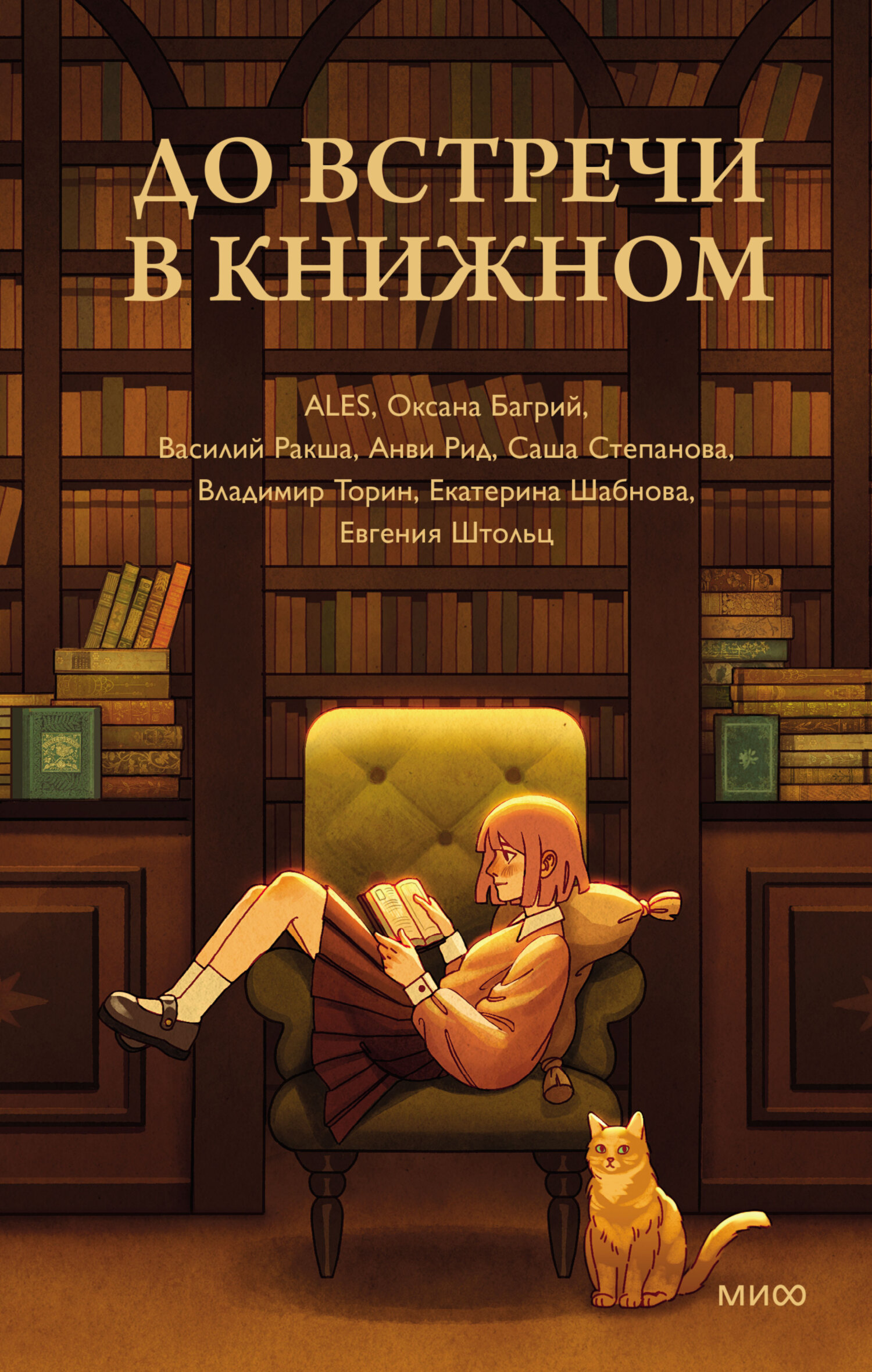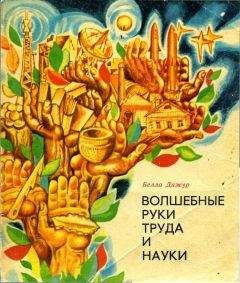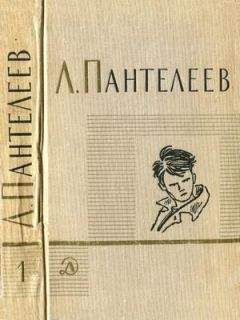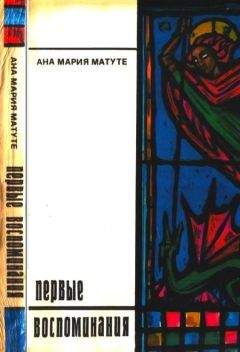Лиза…
Таня замерла у печи. Стало слышно, как потрескивают дрова. Лиза встала пошла торопливо в кладовку — бумагу искать и чернила. А как же — дело есть дело. И может, момента такого больше не подвернется.
— Я сейчас. За чернилами.
Не подняв головы, он слышал, как, простучав каблуками, та скрылась за скрипнувшей дверью. Помедлил, потом выложил деньги и, тяжело поднявшись, двинулся к выходу, повторяя на ходу:
— Своим же огнем… Своим же огнем…
У дверей, одеваясь, все не мог попасть в рукава оттаявшего плаща.
И опять в напряженной тишине было слышно, как угли, шурша, падают в поддувало.
Из кладовой выскочила Лиза с бумагой в руках:
— Да куда ж вы, Петр Иванович?!
Но он распахнул дверь и, скрипя ступенями, молча ушел в белый мороз.
Лиза стояла растерянная:
— Господи, с чего это он? — Посмотрела на деньги, на Таню, сидящую на корточках у печи: — Может, ты чего сказала?
Таня молчала с красным от жара лицом.
И Лиза испугалась, крикнула:
— Ты что ему тут сказала? Почему он ушел?!
Таня упрямо глядела в печь.
— Я тебя спрашиваю, — подскочила Лиза. — Что ты ему сказала?
Таня поднялась и, глядя мимо Лизы, куда-то в пустой зал, который она сегодня видела таким многолюдным, тихо ответила:
— Я сказала ему, чтоб он не писал тебе ничего. Никогда ничего не писал, — и пошла одеваться.
Ночь была тихая и звездная. Белые крыши домов сияли. Блестела под лунным светом укатанная дорога. И по этой дороге, по морозцу бежала домой Таня. Вот и кончился ее первый рабочий день, День артиллерии.
Летняя ночь на саянский поселок Алатау опустилась холодная, черная. Но от будки стрелочника, от первого поста, станция была видна вся как на ладони.
Разнорабочая Валька в майке, в закатанных брюках и толстая стрелочница Зюзина в путейской шинели и фуражке сидели на ступеньках, спиной к светлой распахнутой двери будки, и пели вполголоса:
Скатилось коле-е-чко со пра-а-вой руки-и…
Валька тянула низко, красивым грудным голосом. Вся ушла в песню, чувствовала каждый звук. А Зюзина подхватывала тоненько, по-бабьи:
Забилось серде-е-чко по ми-илом дру-у-жке.
У Вальки на коленях лежала книжка. Она упиралась в нее острыми локтями:
Песня была протяжная, старинная. Она текла от будки стрелочника по всей пустынной станции, над тихими синими огнями у рельсов, над перрончиком при вокзале, над холодными черными составами.
Ох, надену-у я плаа-тье, к милому пойду-у…
Валька вела грубовато, раздольно и чуть небрежно, от щедрости голоса. А Зюзина выводила старательно, аккуратненько:
А месяц укажет доро-о-жку к не-е-му…
Вальке вдруг расхотелось петь с Зюзиной. Не так она пела эту песню, совсем не так, не широко, не глубоко, как семечки лузгала. Но все же Валька тянула еще для порядку:
Пускай люди судят, пускай го-оворят…
Она тянула, а сама глядела вдаль, щуря глаза. Высоко над станцией раскидывалась крыша из света: с вышки вниз светили прожектора. Если же глаза распахнуть — ночь становилась густой, и свет струился жидкий, бессильный. А выше небо и обступившие саянские сопки сливались в одно черное, бесконечное, немое пространство, и не верилось, что где-то есть города со множеством огней и светлыми, как днем, улицами. Валька опять щурилась и сквозь ресницы следила, как этот мрак во все стороны пронзали лучи, яркие, острые. Они доставали до самых гребней, поросших тайгой, до самых туч. Валька думала: «Про это, наверно, песню сложить можно, про это сиянье. Только где слова такие найти? А может, и есть уже? Интересно узнать бы…»
А Зюзина ничего такого не видела. Ни крыши из света, ни тьмы, ни лучей, и глаза она никогда не щурила. Она гортанно и тонко тянула:
Валька хлопнула по голым своим плечам:
— Мошка тут у вас злая.
Зюзина замолчала, вздохнула печально:
— Эх, Валюха ты, Валенок. Вот нет в тебе чувствительности. Шла бы ты лучше спать.
Валька поежилась:
— Не усну все равно. Не спится мне летом.
Зюзина искоса оглядела ее, нашарила в кармане шинели орешки:
— А ты, ишь ведь, всего месяц тут, а уж по-нашему — «мошка̀».
— А чего ж, — Валька книжку открыла, полистала. — Когда наш ремпоезд в Канске стоял, так я сразу по-ихнему болтала. В поселок, бывало, на танцы пойдешь, как своя. Мы там тоже дорогу ремонтировали, на месяц раньше кончили, — она стала читать оглавление сверху вниз. — Вот скажи, ты ела… — прочла раздельно: — «Арти-шоки, а?.. Нет, вот лучше… «сам-бук». Самбук ела?
— Чего-чего? — не поняла Зюзина.
— Ну, самбук? Самбук из абрикосов ела?
— Да ну тебя! — махнула рукой Зюзина. Потом засмеялась тихонько, в книжку через плечо заглянула: — Это ж надо. Придумают же, «самбук».
Валька вздохнула:
— Вот и я не ела, — шершавой ладонью погладила глянец обложки. — Сегодня на вокзале купила. «Чешская кухня» называется. — Серьезно добавила: — Надо будет сготовить. Значит, «двести граммов абрикосов, ваниль…».
Зюзина рассмеялась, аж грудь колыхнулась под толстой шинелью:
— Господи! «Сготовить» ей! Да где ж ты в своей теплушке… Сам-бук этот… О, господи… «Сготовить» ей…
Валька не взглянула на нее, отвернулась даже, глаза на свет сощурила, и опять вспыхнули над землей мириады лучей, невидимых прежде.
А Зюзина посмеялась еще и смолкла, толкнула Вальку примирительно:
— Тебе, Валюха, замуж надо. Вот что. Хватит в вагончиках-то по свету кататься, шпалы ворочать. — Забросила в рот орешек и опять, оглядев ее, прикинула: — Хотя тебя не больно-то замуж возьмут. Сейчас молоденьких девок полно, красивых, — и шелуху сплюнула.
— А мне и так сойдет. — Валька встряхнула головой, шестимесячными своими, еще канскими, кудрями, встала с приступки: — Ладно, пойду я. — Хлопнула книжкой по твердым своим плечам: — Мошка у вас кусучая.
— Да погоди. А то скучно одной. — Зюзина поднялась тяжелым кулем. — Вот товарняк встретим, чаёк на плитку поставим. — Она пошла в освещенную чистую будку, загремела там то ли фонарем, то ли чайником. — Я всегда на дежурство заварку беру и сахар.
Внутри раздался гудок, настойчивый, диспетчерский. Зюзина выскочила на крыльцо с зажженным фонарем в руках:
— На-ка вот, встрень семипалатинский. Тяжелый, проходом. Я сейчас, — и протянула фонарь.
Валька пошла к стрелке. Тускло поблескивали рельсы главного пути, на том конце станции горели красные и