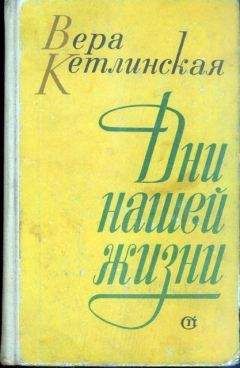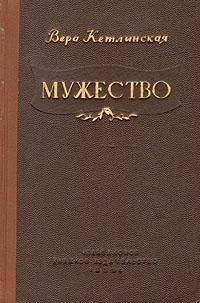— Правильно, Иван Иванович, оговорился я, — добродушно признал Воробьев и глянул на часы. До конца перерыва оставалось несколько минут, а последнее слово он хотел оставить за собой.
Гусаков проговорил бы еще невесть сколько, — он любил, чтобы его слушали, — но Груня решительно потянула его за полу пиджака:
— Иван Иванович, садитесь. Дозавтракать не успеете...
Воробьев подмигнул слушателям и нарочито наивно спросил:
— А во всем мире, Иван Иванович, значит, пролетарии такие же бедные, как были?
— За границей-то? — не понимая, куда клонит Яков, переспросил Гусаков и на всякий случай сел, чтобы не торчать у всех на виду. — Ясно, где, значит, социализма нету... А как же?
— Как будто ясно, — весело подхватил Воробьев. — Да только если разобраться, то и во всем мире сила пролетариата куда против прежнего выросла. Смотрите. Миллионные демонстрации, митинги, забастовки, освободительные войны, движение за мир. Мы им такую надежную опору даем, что держать их в цепях капиталистам трудненько. А сколько народов уже пошло по нашему пути!
Он что-то припомнил и засмеялся:
Вот, честное слово, товарищи, живого капиталиста видал. Конечно, по картинкам представлял себе, а тут — живой, с этаким пузом, как вылитый. В Будапеште это было, сразу после боев. Мы его из бомбоубежища на свет пригласили, из его собственного, частного бомбоубежища, с ванной, с кафельными стенами, с водопроводом... Народ под бомбами гибни, а он в подземном дворце с семьей и прислугой прохлаждается. И вот вышел он, мы на него глаза пялим — интересно ведь! — а он на нас. И что, вы думаете, у него в глазах? Ну, не злоба и не удивление даже, а лютая, смертная тоска.
Гусаков, подобрев, крикнул с места:
— Сподобился, значит, с живым буржуем поздоровкаться?
Смеясь вместе со всеми, Воробьев не дал себе отвлечься и, переждав чуточку, продолжал:
— Два года я там прослужил на охране коммуникаций. Языка не знал, а дух чувствовал — круто повернули, хорошо. Да и в других странах, где, как говорит Иван Иванович, социализма нету, разве там все по-старому? Народ силу почуял и воевать научился, есть у них новое богатство: опыт нашей революции, международная солидарность да великий друг — СССР... Точно ли я слова понимаю, Иван Иванович?
Гусаков крякнул и не спеша ответил:
— В данном случае понимаешь.
Рабочие стали расходиться: обеденный перерыв кончался.
Молодежь окружила Полозова.
— Алексей Алексеич, это правда... насчет нового срока? Бабинков говорил...
Новость, очевидно, уже начала распространяться.
— Приказа такого не знаю, и мне Бабинков ничего не говорил, — с улыбкой уклонился от обсуждения Полозов. — А что, ребята, испугались?
— Чего ж бояться? Мы-то свое выполним! — воскликнула Валя.
— То, что зависит от нас, мы сделаем, — обстоятельно сказал Николай Пакулин. — Были бы заготовки да инструмент.
Иван Иванович Гусаков, собравшийся уходить на свой участок, задержался послушать, о чем толкуют комсомольцы с заместителем начальника цеха.
— В вас все дело, как же! — прикрикнул он на молодежь. — Вам скажи: десять турбин, вы и за десять возьметесь, вам что. — И Полозову: — Алексей Алексеич, никак из огня да в полымя?
Яков Воробьев обнял за плечи Пакулина и Никитина, даже подтолкнул их вперед, как бы подчеркивая, что отстранить их не даст, и внятно произнес:
— Порядку больше — отчего не выполнить?
— Порядок само собою, — недовольно отозвался Гусаков. — На одном порядке ты месяц сбережешь. А еще два на чем? Еще два надо башкой заработать.
Воробьев, не смущаясь и не отступая, возразил:
— Где порядок лучше, там и мысли просторней.
Гудок возвестил о конце перерыва, и сразу громадное здание цеха откликнулось на его призыв всей гаммой звуков, какие дают ожившие механизмы и соприкосновение металла с металлом, когда один из них вгрызается в другой и режет его, обтачивает, сверлит, рубит.
Вступили в строй «Нарвские ворота» басовитым скрежетом могучих резцов и ритмичным щелканьем переключателя. С мягким жужжанием закрутились огромные планшайбы каруселей, быстро и легко подставляя под резцы тусклые плоскости отливок. Пулеметной очередью застучал пневматический молоток, обрубая металл. Завизжала механическая пила, распиливая пополам толстое стальное кольцо... Сотни рук плавно регулировали движения механизмов, сотни глаз, не отрываясь, следили за скольжением резцов, фрез и сверл, за летучими змейками желтых, синих, серебристых, вишневых стружек, за алым сиянием раскаленного трением металла.
Клементьев и Полозов остались одни в середине пролета.
— Вот ведь мельница, ей-богу! — с сердцем сказал Ефим Кузьмич. — Ежели, скажем, инструмента не хватает и поднажать надо, Бабинков без голоса; а ежели первым новость растрезвонить — куда как горласт! — И совсем тихо спросил: — Что, покрутимся, а?
— Д-да... задача...
Распахнулись ворота, пропуская в цех паровоз и две платформы, нагруженные крупными отливками. Иван Иванович Гусаков не по возрасту резво побежал к паровозу, его сердитый голос перекрыл шипение паровоза и все другие звуки:
— Осади! Куда разбежался? Осади немного!
Полозов поднял голову, стараясь определить, скоро ли освободятся необходимые для разгрузки краны. Он хорошо видел озабоченное лицо Вали Зиминой, управлявшей контроллерами. Два крана согласованно и осторожно подняли в воздух громадину цилиндра, покачивающуюся на охвативщих его стальных канатах, и медленно пронесли к стенду. Валя Зимина ударами маленького колокола предупреждала: внимание, внимание, в воздухе многотонная тяжесть!
Клементьев и Полозов отошли в сторону от прохода, над которым проплывал цилиндр, и проводили его взглядом. Ефим Кузьмич вздохнул и сказал успокаивающе:
— Ничего, Алексей Алексеич. Не в первый раз, а?
Полозов молча кивнул.
Ему хотелось возразить, что такой трудной задачи еще, пожалуй, перед цехом не возникало, но говорить об этом Ефиму Кузьмичу не имело смысла: старик сам все понимал.
Он задумался, стоя посреди цеха. Его раздумье нарушил зычный, возбужденный голос старшего технолога Гаршина:
— Алексей Алексеич, дорогой, идите-ка сюда скорее! Полозов заметил рядом с внушительной фигурой Гаршина небольшую женскую фигурку и с интересом приглядывался, что за гостья. Под меховой, надвинутой на одну бровь шапочкой он увидел карие блестящие глаза и улыбку — такую открытую, жизнерадостную, что нельзя было не улыбнуться в ответ.
— А вот и товарищ Полозов! — воскликнула женщина.
Голос был звучный и выразительный, со своей интонацией для каждого слова. И лицо выразительное: улыбка исчезла, губы энергично сомкнулись, а глаза смотрят выжидательно, будто говорят: не узнаешь? А ну-ка, постарайся, узнай!
И он узнал. Память разом воскресила давнюю тревожную ночь. Темный цех с редкими лампами, прикрытыми синей бумагой, мечущиеся над стеклянной крышей лучи прожекторов, грохот выстрелов и разрывов, подрагивание пола под ногами... и молодая женщина с расширенными от страха глазами, возле которой он очутился в укрытии. Отрывистые слова: «Страшно?» — «Ну вот еще. Бывало хуже». — «Нет, кажется, не бывало…» Ее смешок: «Смотрите, у вас пальцы прыгают». И его старание унять дрожь пальцев, достававших папиросу, и чувство удовлетворения, когда это удалось. В дни, когда цех снимался с места в нелегкий и дальний путь, деловитый молоденький инженер Карцева работала расторопно и толково, помогая упаковывать станки. Алексею было грустно и стыдно уезжать, когда она остается, он спросил: «Все-таки, Аня, почему вам не поехать?» А она ответила просто: «У меня муж на фронте — тут, возле Мясокомбината».
— Аня Карцева, — обрадованно вспомнил он. — Какая вы стали!
— Неужто так изменилась? — с нескрываемым огорчением спросила она и опять стала совсем иной — не такой, как прежде, и не такой, как минуту назад.
— Анечка, да вы красивей стали черт знает насколько! — шумно вмешался Гаршин.
— Просто вы какая-то переменчивая, — сказал Алексей, — и одеты совсем по-другому... А вы к нам в гости или насовсем?
— К нам, работать, — чересчур громко, как всегда, когда был весел, объяснял Гаршин. — Понимаешь, приходит и спрашивает тебя, а я как выскочу! Мы ж приятели с каких пор. Учились вместе, вместе Кенигсберг штурмовали.
— Я-то, положим, не штурмовала, — насмешливо уточнила Аня, потом уже серьезно обратилась к Полозову: — Директор направил меня к вам, чтоб вы решили. Я очень оторвалась от специальности, Алеш... Алексей Алексеич. Боюсь, что на первых порах могу оказаться невеждой.
— Ерунда, Анечка, научим, поможем, это вы не беспокойтесь, — подхватил Гаршин с шумной готовностью. — Давай ее ко мне, Алеша. Сразу все вспомнит, как только начнет работать!