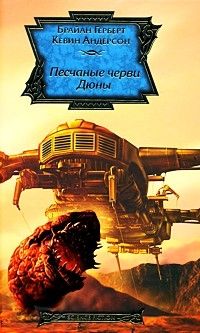Он встал. Сунул ноги в холодные шлепанцы и согрел над печкой одежду. Оделся, глянул на часы. Включил радио: «…после напряженных боев наши войска оставили…» — тут же выключил. Постоял, вздохнул глубоко и повернулся к печке. Чайник закипел. Половину горячей воды он развел холодной и умылся. Потом позавтракал — чай с двумя крохотными кусочками сахара и кусок темного, похожего на глину, хлеба. Обычно он вставал поздно, перед самой репетицией: экономил дрова, но сегодня собирался написать письмо. Поставил возле печки низенькую треногу, рядом табурет, на ней расположил пузырек с чернилами из химического карандаша, школьную ручку с пером и два листа серой бумаги из тетрадки.
Потом сел на стульчик спиной к печке и задумался.
«Диомидэ Цирамуа!
Милостивый государь!
Так бы следовало начать, если б я соблюдал принятый в оные времена эпистолярный стиль. Впрочем, как знать, возможно, когда нас не станет, опубликуют твой архив, и я попаду-таки в историю грузинского искусства одной строкой на одной из ее страниц. Прошло ровно три года, как мы расстались, но я наизусть помню клятву, которую дали, покидая студию. Особенно эти вот слова: «Будь проклят тот, кто заметит талант и подавит его или равнодушно пройдет мимо! Стать тому кровосмесителем, кто не протянет руку другу, не озарит ему путь, не благословит его талант». Смешные мы были, да?
Я поехал сюда, чтобы не играть в тбилисских театрах «четвертого мужика» или «первого охотника», чтобы избежать этой неизбежной участи начинающего актера в столице. Почему? Спроси себя — это ваша вина, режиссеров: с первого дня занятий в студии вы сулите будущему актеру роли голубых героев!
Ныне, когда я больше не боюсь сцены и твердо стою на ней обеими ногами, я обращаюсь к тебе с просьбой, и не вздумай отказать мне. Допускаю, что моя идея покажется дерзкой или фантастичной, но ты должен поставить у нас «Ромео». Приезжай сюда, хотя бы несколько месяцев будешь сыт. Сейчас в деревне с едой полегче, чем в городе. Правда, в Грузии всегда было так. А помимо того, я узнал, что и труппа и сцена свободны до января — февраля следующего года, значит, в нашем распоряжении четыре и даже пять месяцев.
Не представляешь, как здесь любят театр. Каждый вечер аншлаг, зал переполнен, а тишина — услышишь, если муха пролетит. А как переживают зрители происходящее на сцене! Вот это удерживает меня тут, не то и я бы жил в столице, дома, с родителями, лелеемый мамой, подъезжал бы к театру на отцовской машине. Но я не могу предать нашу публику. Люди влюблены в театр, любят его не меньше нас. На улице прохожие узнают меня, и, кажется, всем известно, что отец мой работает в Совнаркоме, а я ради театра терплю тут неудобства, лишения. Признаюсь тебе еще в одном: наш главный режиссер, возможно, и считает меня лучшим актером, но главных ролей не дает, видимо, боится обвинения в угодничестве, а у него, ты знаешь, репутация смелого, порядочного человека. Допускаю, разумеется, что ему попросту не нравятся актеры моего типа. Не разобрался еще. Вообще он хорошо относится ко мне, как и к каждому выпускнику нашей студии, но главные роли отдает «старым» актерам, а они один за другим уезжают на фронт. Иссякло у меня терпение… Боюсь, что усомнюсь в выбранной профессии… Словом, ответь сразу. Если не отзовешься, попытаюсь добровольцем пойти на войну… Зла не хватает на отца — от него у меня плоскостопие, и из-за этого трижды освобождали меня от воинской службы — не без его стараний, конечно, иначе, хотя бы в нестроевой службе нашлось мне место. Видишь, о чем бы мы ни вели речь, неизбежно касаемся войны!
Пишу тебе, а сам взволнован, возбужден, как Ромео перед первым свиданием. В образе Ромео меня больше всего привлекает момент возмужания. Наше поколение тоже рано возмужало. Ромео за неделю повзрослел и даже погиб. А мы в один день возмужали все — 22 июня прошлого года. Будь другом, согласись, поставь у нас спектакль. Я помню твою дипломную работу, читал твою экспликацию «Ромео». А здесь все будут благодарны тебе, благодарны во всех смыслах этого слова, особенно районная власть.
Не уговариваю. Подумай. Если не уверен в моих актерских данных, напиши, не обижусь. Молчание твое обидит сильнее… Может, у меня лишь желание сыграть Ромео, а способностей не хватит. Вам, режиссерам, это видней. Только не тяни с ответом, я брежу Ромео. Всю трагедию наизусть выучил. И ко всему прочему, у нас такая Джульетта, обалдеешь. «Джульетта — это солнце». Помнишь, наверное, ее.
С нетерпением жду ответа.
Ваш покорный слуга
Темо Брокиашвили. 20 октября 1942.
P. S. Правда ли, что наши создали какое-то реактивное оружие, которое повернет весь ход войны?»
Из республиканской газеты от 29 октября 1942:
«Театральная жизнь. Несмотря на трудности, вызванные войной, партия и правительство проявляют заботу о развитии нашего прославленного театрального искусства. В конце года в Ташкент съедутся посланцы шестнадцати республик для прохождения стажировки под руководством эвакуированных туда режиссеров и актеров. Из нашей республики для учебы у выдающихся деятелей театра будет направлен подающий большие надежды молодой режиссер Диомидэ Цирамуа. В беседе с нашим корреспондентом Д. Цирамуа сказал: «Как и любой другой представитель советской молодежи, я предпочел бы отправиться на фронт, но раз таково решение, я приложу все силы и оправдаю оказанное мне доверие, еще глубже овладею театральным мастерством, чтобы создавать спектакли, которые будут укреплять дух советских людей в борьбе с фашистскими захватчиками…»
Обширная зеленая долина, простертая у подножия хребта, со стороны базара представала взору во всей своей красоте. Долина была на редкость ровной, и ничто не мешало ее открытости — ни бугорок, ни строение, ни дерево или кустарник. Только хребет своими неприступными скалами и снежными вершинами, казалось, громоздился на ней величаво — так резко сменялись его склоны ровным простором. Леса почему-то не с самого низа покрывали склоны, а с середины, будто стремились забраться повыше. Их опережали кустарники, уступавшие затем место у вершин альпийским лугам. Осень расписывала долину и склоны поразительными красками — ни волшебная палитра, ни буйная фантазия не то что создать, выразить бы не сумели немыслимого смешения и перелива цветов. Великолепный хребет с вершинами в белых войлочных шапках гордо и вольно опирался о синеву неба, прозрачную, упругую, до ощутимости зримую. А синева над хребтом и долиной всегда была ясной, чистой, даже легкое облачко не повисало в ней.
Из многих мест города просматривались хребет и сливавшаяся с ним долина, но вид с базара был особенный. Согласитесь, все определяется в конце концов углом зрения.
В городе думали, что Темур Брокиашвили любит выпить, и потому так часто забредает на базар, где крестьяне продают домашнее вино. Но пока застольники дегустировали вино и угощались, Темур Брокиашвили взирал на долину и вершины, на непреходящую красоту, наслаждался величавым покоем.
Не отказал он друзьям и в этот день, когда после репетиции они предложили ему зайти на базар. Вечером у него был спектакль, и он не пил. Его и не неволили, знали, перед спектаклем, даже за день до него, какую бы роль ни играл, капли вина не брал в рот. Но если выпадало несколько свободных кряду дней, о воздержании, не сомневайтесь, и речи не было. И все ж до потери ума не пил, а во хмелю не терял человеческого лика, поэтому нравился всем и трезвый, и хмельной.
В этот раз он не остался с друзьями до конца. До конца — значило до заката солнца. Без солнца меркла влекущая красота долины и хребта.
Сославшись на дело и извинившись перед застольниками, он пошел домой.
В комнате было убрано, а мебель покрыта кусками материи. Как ни просил он хозяйку не срамить его перед гостями, — могут подумать, что он скупой, трясется над вещами, она все равно оберегала вещи постояльца, дорожила ими больше, нежели своими, так любила его.
Темур присел к письменному столу, приготовил бумагу, ручку. Подошел к окну. «А если опять не ответит? Ну и что, не покину же из-за этого сцену!» И снова сел. Несколько раз начинал, перечеркивал, порвал лист, взял другой, написал несколько слов и снова порвал. Встал, заходил по комнате. «Не нужно ли чего, сынок?» — шаги его достигли слуха хозяйки, обеспокоили. «Нет, нет», — громко ответил он, давая понять, что не склонен продолжать разговор. И подумал: «Что ей делать — одинока, вот и печется обо мне». И сел за стол, неколебимо решив: «Не встану, пока не напишу!»
«Диомидэ Цирамуа!
Милостивый государь!
Мой Дио! Диошка!
Не знаю, с чего начать… Не хочу думать, что ты забыл меня, своего однокурсника Темура Брокиашвили — а может, напомнить, как играли мы в «Измене»: я — Эрекле, ты — Солеймана; в «Иных нынче временах»: я — Гижуа, ты — господина?.. Но нет нужды напоминать, верно? Ты с самого начала тянулся к режиссуре, и судьба улыбнулась! Теперь, когда ты процветаешь и успех сопутствует тебе, обрати внимание и на нас, твоих друзей.