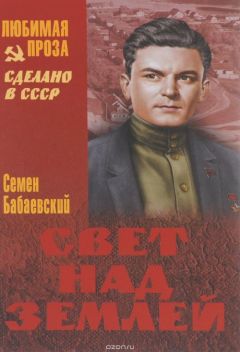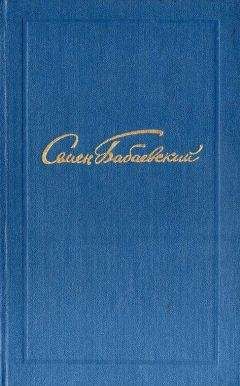— Ты меня учить еще молодой! Во всякой бумажке прежде всего надо видеть документ! — сердито проговорил Алдахин и, покосившись в сторону Алеши, вошел в соседнюю дверь, снаружи обитую черным коленкором, со стеклянной табличкой: «2-й секретарь РК С. П. Алдахин».
Сергей прошел по коридору и рядом с кабинетом Алдахина увидел на дверях свежую табличку: «Секретарь РК Т. Н. Нецветова».
Следом за Сергеем к Кондратьеву пробежал Алдахин, на бегу раскрывая папку с бумагами, при этом лицо его выражало суровую решимость… А через некоторое время в коридор вышли Сергей, Стегачев, Алдахин и Нецветова; следом за ними появился и Кондратьев, в шапке-ушанке, в черной долгополой шубе со сборками на поясе и с буркой, перекинутой на руке. Накинув ее на плечи, обратился к Татьяне:
— Татьяна Николаевна, постарайся любыми средствами проехать в Родниковскую сегодня, в крайнем случае — завтра. Поговори сама с Грачевым. Может, на время метели прекратить занятия…
— Коленька, — заговорила Наталья Павловна, — завязывай, пожалуйста, шею. Я приготовила немного продуктов. В дороге пригодятся.
— Ты всегда такая, Наташа, — сказал Кондратьев, принимая из рук жены сверток.
Когда все вышли на улицу, Наталья Павловна задержала Сергея у самого порога и шепотом сказала:
— Сережа — ты езжай спокойно: за Ириной я присмотрю.
— Спасибо вам, Наталья Павловна, — сказал Сергей и, пожав теплые, маленькие ладони Натальи Павловны, быстрыми шагами вышел.
В коридоре стало пусто. В сильно замерзшее лохматое от налипшего инея окно, казалось, кто-то пригоршнями бросал жесткий мелкий снег; ветер со свистом гулял по крыше, кусок оторванной водосточной трубы раскачивался и с хриплым звуком ударялся об угол; в печках потрескивали дрова… Наталья Павловна остановилась у окна, прислушиваясь и к ветру и к тому, сколько еще раз захрипит обрубок трубы.
Домой ей идти не хотелось. Постояла немного и пошла в кабинет Нецветовой.
Татьяна стояла лицом к окну, растирала пальцем белый и холодный пушок на стекле. Увидев Наталью Павловну, она через силу улыбнулась, а в глазах таилась грусть.
— А отчего грустишь? — участливо спросила Наталья Павловна.
— Вьюга нагоняет тоску.
— А может, не вьюга, а сердечные дела?.. Как у тебя со Сгегачевым? Ведь любит же он тебя?
— Не знаю, Наталья Павловна… Может, он-то меня и любит, а мое-то сердце…
— Знаю, знаю. — И помолчала. — И как они на станцию доехали? — Наталья Павловна взяла Татьяну за руку, сказала: — Приходи ко мне ночевать. Поговорим… Ты же с комнатой еще не устроилась, а мне одной скучно. Хотела пойти к Ирине, да боюсь бури. Может, сходим — вместе? Ну, придешь?
Татьяна утвердительно кивнула головой, — ей тоже хотелось побыть с Натальей Павловной вдвоем, чтобы поговорить обо всем, что ее так волнует в эти дни.
Метель не унималась, ветер гнал и гнал со степи облака снега, и маленькая станция, куда приехала рощенская делегация, была укрыта серым и мрачным покрывалом. Из него выполз и со скрежетом обледенелых колес остановился поезд, весь так запорошенный снегом, точно его старательно задрапировали марлей…
Рощенцы вошли во второй вагон, в котором ехала пятигорская делегация. И в коридоре и в купе, куда проводник проводил Глашу и Варвару Сергеевну, было тесно.
— Глаша, а тут можно отогреться, — сказала Варвара Сергеевна, разматывая шаль и чувствуя, как и ресницы и брови ее сразу намокли.
Раздевшись, причесав волосы и повязавшись косынками, Варвара Сергеевна и Глаша осмотрелись: верхние полки были заняты, — одна женщина, видимо, спала, повернувшись лицом к стене и распустив черную, подрезанную и плохо завитую косу, а другая приподнялась и, опираясь на локоть, спросила:
— Все метет?
— Света белого не видно.
В завывание ветра врезался гудок паровоза, вагон пошатнулся, загремели, вздрагивая, смерзшиеся буфера, и поезд, окутываясь паром и поскрипывая, как будто поставленный на полозья, тихо отошел от станции. Когда же он, набирая скорость, миновал последние строения и вырвался на простор, когда ветер зашумел о крышу вагона, Сергей, проходя по коридору, остановился у репродуктора, — птичьим гнездом прилепился он к потолку. По вагону разливался чистый девичий голос; в нем было столько теплоты и нежных чувств, что Сергей невольно увидел берег Кубани, курчавый лесок, бричку, огненно-красных быков с лысинами и смеющуюся Ирину. Ему казалось, что за окном вагона нет ни мороза, ни снежной вьюги, а разливается огромное солнце и текут по мягкой от первого дождя, повсюду свежезазеленевшей земле дымчатые облачка сизого марева…
— Сергей Тимофеевич, — сказал Кондратьев, — хочу поведать тебе одну новость. Правда, она еще не настоящая, а будущая. Может случиться так, что я не вернусь в Рощенскую.
— Да ты что, Николай Петрович? — Сергей рассмеялся. — Почему?
— Третьего дня говорил по телефону с Бойченко. Видишь ли, есть намерение повысить меня в чине… Едем мы на конференцию, а ты знаешь, что конференция — это такая хозяйка, что она может с нами делать решительно все…
— Понимаю, — Сергей раскуривал папиросу, — тебя заберут в крайком?
— Возможно.
— Николай Петрович, а как же тогда все наше… у нас… ты сам знаешь… такие планы…
— На одном месте век сидеть не будешь, — ответил Кондратьев. — Придет время и ты уедешь из Рощенской, а планы — не мои и не твои, и будем мы с тобой в районе или не будем, колхозники свои планы выполнят.
Из купе вышел Савва и крикнул:
— Да чего же вы не идете? Я уже все приготовил, аппетит вовсю разгорелся, а вы все стоите!
После ужина Савва взобрался на полку, разделся по-домашнему и, укрывшись с головой, затянул пискливого храпака, — беднягу укачало, как ребенка в люльке. Кондратьев снял гимнастерку, причесал седой чуб и тоже прилег; пододвинул поближе настольную лампу, надел очки и развернул газету.
Сергей докурил папиросу и присел тут же. Вошел четвертый пассажир, — все это время он был где-то у соседей. Мужчина пожилой, коренастый, надежно сложенный; лицо широкое, глаза большие, светлые; носил он светло-рыжую бороду, со всех сторон подрезанную и подбритую; одет в добротный военный китель, на широких плечах лежали погоны полковника.
— Вы уже на боковую? — спросил он звучным тенором. — А я все спорил тут, по соседству, и, думаете, о чем? О физкультуре! — Полковник присел, погладил бороду. — Более двадцати лет занимаюсь утренней зарядкой, и спросите меня: знаю ли я, что такое болезнь? Нет, клянусь совестью, не знаю! Войну прошел — даже гриппом не болел… А вот мои руки! — И он сунул Сергею зачерствелую, в мозолях, ладонь. — Железная ладонь! Каждое утро час на зарядку — мой закон.
— А как вы думаете, полковник, — заговорил Кондратьев, снимая очки, — нужна ли кое-кому из нас, будем говорить — большинству из нас, умственная зарядка, и зарядка ежедневная, непрерывная, — это тоже, как известно, придает и бодрости и уверенности…
— Согласен, но здоровье… — оживился полковник, подсаживаясь к Кондратьеву и, видимо, чуя начало нового спора. — Я слышал, вы секретарь сельского райкома? Отлично! А я военный инженер, и я прошу вас меня выслушать…
«На одном месте век сидеть не будешь… Придет время…» — думал Сергей.
Ему хотелось остаться одному со своими мыслями, и он не стал слушать полковника, накинул на плечи шинель и вышел.
Тихим морозным утром поезд выполз на пригорок и остановился у белого здания, — это был Ставрополь. Рощенцы вышли из вагона. Светило солнце, только что вставшее над заснеженным городом: повсюду лежали свежие, слегка прижатые морозом сугробы, и солнце, искрясь и сияя, слепило глаза.
Делегаты уезжали в город. От вокзала, ставшего в это утро шумным и людным, отходили красные, с тупыми носами автобусы, выбрасывая вбок густые черные клочья дыма.
Ставрополь лежал на пологой хребтине, весь вставая над степью. Разбегались от центра к полю его широченные, с достатка скроенные улицы и проспекты, к небу тянулись высоченные тополя…
Летом всем своим видом он напоминал птицу, парящую над полями, и к этому все привыкли; теперь же он походил на косматого белого верблюда, который шел-шел, а потом прилег отдохнуть на скрещении степных дорог, да так и остался лежать…
Весь Ставрополь, от окраинных садков до Комсомольской горки, завален снегом — и каким снегом! Чистым, пушистым, цвета небесной синевы! Казалось, что зима, гуляя на просторе, завалила всю степь, замела и закидала все ложбины и балки, так замела и закидала, что буграстые поля сделались ровными; потом оглянулась, посмотрела на Ставрополь, а он (ах ты, горе!) лишь чуть припудрен снежком, все так же возвышается, открытый всем ветрам, и улицы его, обсаженные деревьями, видны из конца в конец! Посмотрела зима, обозлилась и стала валить на город снег не порошей, а комьями; видимо, хотелось зиме укрыть все строении, улицы, бульвары, сады и сказать: «А посмотрите — только что был город, и уже его нету, лежит среди степей один белый бугор…»