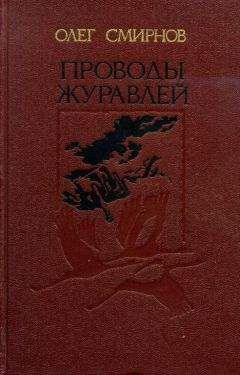— «Жигуленок» — прекрасно, — согласился Мирошников, остывая. — Но на курсы еще не записался. Занятия по вечерам, времени покуда нет. Но запишусь, не волнуйся, права у меня будут раньше, чем будет машина.
— Не скажи, папа обещал посодействовать.
— Не волнуйся, будут права…
Этот деловой разговор, не совсем уместный, сбил настроение, и когда Маша снова стала ласкаться, Вадим Александрович отнесся безучастно, сказал, будто извиняясь:
— Устал я, Машучок. Давай-ка спать.
— Ах ты, засоня. Спи…
Кажется, не обиделась. И слава богу. Действительно, желание у него пропало. Лучше спать. Но и сон пропал.
Мирошников лежал и словно прислушивался к себе. Отчего так быстро скис? Не волнует его уже Маша, как прежде? Подостыл? Или никогда очень-то и не любил ее? Или он стареет? В тридцать пять-то? Или этот точно же неуместный, точно же дурацкий разговор о «Жигулях» и водительских правах? Как бы там ни было, в эти минуты жена отдалялась, отчуждалась от него. А вот близость, наоборот, их сплачивала…
Он прислушивался к себе и по другой причине. К себе, которого знал издавна, и к себе, которого узнал вовсе недавно. Этот, второй, появился только-только, а может, был всегда, да дремал подспудно? Так либо не так, но под личиной повседневности, под оболочкой быта проступало что-то необычное, не свойственное ему ранее. Что же именно? Конкретизировать трудно да и вряд ли сейчас нужно, но, возможно, это от соприкосновения с отцом, со своим, что ли, корнем. Нет, что ни толкуй, многое в отце привлекает. И в первую голову то, чего не хватает самому.
Если честно, не хватает безоглядного, без взвешиваний, порыва, не хватает способности на решительный шаг, на ломку устоявшегося, не хватает рискованности, которая неизвестно чем обернется: то ли пирогами и пышками, то ли синяками и шишками.
Ну, например, разве достанет Вадима Александровича Мирошникова сломать семью? Допустим, повстречал женщину, в которую без ума влюбился (вот это и сомнительно — без ума, ума-то он не потерял бы). Итак, влюбился. Бросил бы Машу? Вряд ли. Но ладно, но с натяжкой — бросил бы. А как же с сыном? Нет, нет, Витюшку он не оставит ни при каких обстоятельствах, хоть сто любовей — он может жить только с сыном. Ну а увлечься, без ломки, мог бы? Да хлопотно, накладно и небезопасно: увлечение, чего доброго, перейдет в любовь, которой не зарадуешься. Очевидно, поэтому он когда-то и не перебрался на кровать к таежной красавице, что мило говорила: «Звезды шепочут». А не зря ли не перебрался? Не исключено, зря, зато спокойствия впоследствии не лишился. Так что тут бабушка надвое сказала, как лучше-то. А вот отец все сломал: на все решился. Вольному воля, Вадим Мирошников так поступить не в состоянии. Если честно: порядочность или боязнь потерять душевный комфорт? Но зачем же подобные крайности, хотя черт его знает… впрочем, говорить «черт» — нехорошо. Ну, это семейная, так сказать, тема. А другие, не семейные, не интимные?
Взять тот же конфликт, когда отец трудяжил еще на заводе. Он описал это столкновение скупо, но от такой скупости, как ни парадоксально, картина предстала еще живей. Живо, живо получилось, что и толковать. Отец был избран в партком завода, фронтовику почет и уважение, к нему товарищи прислушивались. И вот он в качестве члена парткома влезает в заводскую отчетность и обнаруживает большие приписки, проще — «липу». Это на заводе укоренилось давно, в приписках, обеспечивающих крупные премии, участвовала вся заводская верхушка во главе с директором, бухгалтерия тоже была замешана, ревизоры — куплены. А что отец? А отец попер в бой, с цифрами, фактами в руках. Докладывал в партком, в райком, в горком, писал в прокуратуру, в редакции. Жулики за глаза его проклинали: «Чтоб ты жил на одну зарплату!» (Отец не без юмора пишет: «Раньше говорили иначе: будь ты проклят!» А между прочим, Вадим Мирошников свидетельствует, хапужье присловье «чтоб ты жил на одну зарплату» благополучно дожило до наших дней и помирать не собирается!) Чего отцу это стоило — можно догадаться, здоровья положил, конечно, вдоволь. Но вывел ворюг на чистую воду, судили, дали подходящие сроки. Отец по этому поводу записывает:
«Меньше на свободе преступников — обществу легче дышится. Испытываю моральное удовлетворение, свой гражданский долг выполнил».
Моральное — да, а как насчет материального? Фига с маслом, даже спасибо не сказали: уж слишком многих он задел, у кого были высокие покровители. Покровители-то остались у власти, и пришлось отцу отнюдь не по собственному желанию искать себе другое место приложения сил. Хорошо, к тому времени уже изобрел кое-что, статьи кое-какие научные напечатал. Приняли в аспирантуру, ну а после — в институт, в родной МИИТ, где он тоже не способствовал спокойному течению бытия. За что перепадали не одни благодарности. И главное — подчас встревал в далекие, казалось бы, от институтских проблем.
Вот пример, сравнительно недавний. Студенческий строительный отряд ездил куда-то на Смоленщину, в глубинку. Прежде, когда был помоложе, покрепче, с этими отрядами увязывался и Александр Иванович: судя по всему, отец любил своих студентов, а они его. Так бывает: старость и молодость притягивает друг к другу, редко, но бывает. Как правило же, у каждого поколения притяжение к сверстникам. По себе сужу. Так вот, в то лето стройотрядовцы воротились со Смоленщины и, разумеется, поделились с отцом, что строили, как строили и вообще о деревенской, колхозной житухе.
В общем и целом житуха неплохая, а если б пили и воровали меньше — вовсе была бы хорошая. Люди там добрые, работящие, самоотверженные и ежели надо, героические. Студенты рассказывали, как молния ударила в коровник, как местные парни бросились в огонь, выводить коров и как, спасая народное добро, погиб под обрушившейся кровлей семнадцатилетний Дорошенков Митя, Митяй. Подвигом можно гордиться, хотя никакие коровы не возместят человеческой жизни. Но человек, честный, возвышенный, рисковал сознательно, а роковая нелепость слепа, что тут поделаешь. Однако суть-то в ином: пока один отдавал жизнь за сохранность народного добра, другой расхищал это же народное добро. Речь шла о председателе, который распоряжался в колхозе, как в своей вотчине. Окружив себя угодниками и подхалимами, председатель разбазаривал колхозную продукцию налево и направо. И это сходило ему с рук, потому что председателем райисполкома был его свояк.
Александр Иванович писал в дневнике:
«Как только могут соседствовать подлость и благородство, низость и высота духа! А вот соседствуют… Но никогда не смирюсь с этим… Меня будто оплевали, когда я узнал о поступке Митяя и о поступках председателя. Безнравственно проходить мимо таких коллизий. Справедливость требует, чтобы я вмешался, иначе совесть замучает…»
И отец вмешался, да еще как! Ударил в набат в ректорате, в парткоме. В ректорате поморщились: не наши, мол, функции, мы построили свинарники и коровники, а привлекать к ответу предколхоза — на это есть местные власти. Зато в парткоме поняли и написали официальную бумагу в Смоленский обком партии, а студенты-стройотрядовцы во главе с отцом написали коллективное письмо в «Комсомолку», хотя кое-кто и тут поморщился: коллективные письма нынче не в почете. Больше того: отец сам поехал на Смоленщину и сам во всем убедился. На обратном пути попал в Смоленске на прием к первому секретарю обкома. Там Александра Ивановича активно поддержали, и отец приводит слова первого: «Побольше бы таких, как вы… А положение выправим…» Отец так комментирует секретарские слова:
«Соль не во мне как в персоне, а в принципах, которые я отстаиваю. Ну а положение действительно выправили: предколхоза сняли, заодно и предрика, его свояка. Первого исключили из партии, второй получил «строгача». Митяя не воскресишь, но правда восторжествовала. За правду стоит бороться…»
А вот пример институтских непосредственно баталий, один из многих. Что примечательно — сплошь и рядом отец вступался не за себя — за других. Он даже теоретическую базу под это подвел:
«Стыдно, как-то неуютно просить (или требовать), если вопрос встает о твоих интересах, пусть и справедливых. Когда просишь (или требуешь) для себя, это как бы отдает некой корыстью, некой невольной эгоистичностью. Но если вопрос встает о других — шалишь, брат, тут я на коне и во всеоружии, тут я морально абсолютно раскрепощен».
Ну, насчет корысти и эгоистичности, коль дело правое, хоть и твое личное, здесь отец явно загибает, пуританин, да и только. Но вообще-то умел загораться и, загоревшись, биться до конца во имя чьих-то неправедно ущемленных интересов. Загораться-то загорался, однако далеко не всегда выходил победителем, бывало, горел синим пламенем, нисколько, впрочем, не раскаиваясь.
Да вот эта же баталия — чем она кончилась? Сперва о том, чем началась. Некто Шарабанин, доцент, изобрел прибор (отец описывает его без лишних подробностей, так что Вадиму Мирошникову, дилетанту в этой области, не понять тонкостей). Но существо понять можно: прибор универсален и безотказен при определении грунта на больших глубинах и на больших площадях, к тому же сравнительно недорог, прост в обращении, долговечен. Всё — за. И все — за. Настолько за, что постепенно и незаметно Шарабанин оброс соавторами, как пень опятами: из руководства института, из Министерства высшего образования, из Министерства путей сообщения, из дирекции завода, где изготовлялись опытные образцы. Короче: представляют прибор в Комитет по изобретениям, и истинный творец его в списке оказывается по алфавиту на последнем месте — Шарабанин. Отец, натурально, взвился, когда молодой доцент поплакался ему о своих бедах: изобретал один, а налипла куча, правда, люди нужные, без них не пробьешься. «Пробьетесь!» — сказал отец и, невзирая на уговоры Шарабанина не поднимать бучу, он эту бучу поднял. Но нужные люди нажали на доцента, пригрозили бросить изобретение на произвол судьбы, и бедняга Шарабанин дрогнул: собственноручно подписал заявление, что все соавторы — законные, работа была совместной. Отец еще долго шумел, однако толку не добился: решающее слово было за доцентом Шарабаниным. Он потом краснел, бледнел, униженно умолял отца простить его, долдонил: «Вы теперь при встрече не подадите мне руки…» Отец ответил: при встрече руку подам, коль уж подал в трудные для вас минуты, жаль, что вы не приняли ее, смалодушничали, вы не меня предали — себя…