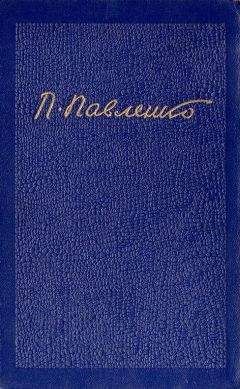— Я буду искать трудной работы и найду ее. Но я не смогу остаться здесь, где каждый камень…
— Пройдет, пройдет!.. Давайте отложим этот разговор.
— Да… Отложим, но не отменим.
С веранды их окликнул Сальский, пришедший с Гаркушей, потом явился Одуванчик и остался возле своего друга на всю ночь. Молчаливые, они сидели то в комнате, то на веранде и вздремнули сидя лишь под утро. Несколько раз появлялась Маруся, тоже молчаливая, неслышная, — прекрасная тень, как сказал о ней Одуванчик. Она заставила их закусить и выпить чаю на веранде. Утром Одуванчика сменила Тамара Александровна. Редакционные товарищи не оставляли Степана в одиночестве; он благодарно оценил это и все же ждал одиночества, хотел его.
И одиночество пришло.
Казалось, что связь с Черноморском оборвалась окончательно, когда Степан проводил Наумова.
Это было через три дня после похорон матери; Степан навестил Бориса Ефимовича.
В большой комнате с лощеным паркетом все говорило о сборах в дорогу — наполовину заполненный большой чемодан, саквояж, пачки книг…
— Садитесь в кресло, а я буду продолжать свое самое нелюбимое дело, — сказал Наумов, уминая как придется вещи в чемодане. — Сборы в дорогу — это всегда какое-то подведение итогов: как жил, чем интересовался, чему отдавал время. — Он усмехнулся. — Привез в Черноморск пачку книг, а увожу целую библиотеку. Это хорошо. А одежда, барахло? Приехал в военном, и этого было вполне достаточно. А вот откуда-то взялись еще два костюма, к которым я не могу привыкнуть и которые, следовательно, не нужны. Какие-то рубашки и еще всякое, всякое… Как это получилось? Лишние вещи — это грабители, воры, расхитители нашего времени, они связывают и отяжеляют. Оброс, постыдно оброс! Ну, в дальнейшем постараюсь отбиваться от лишнего… Человек коммунистического обществ будет иметь лишь самое необходимое, прекрасное, удобное, долговечное, умно отобранное.
Понемногу Степан стал помогать ему, и Наумов принимал помощь своего гостя даже тогда, когда мог обойтись своими силами, — как видно, хотел занять Степана, отвлечь от раздумья.
— Можно подумать, что вы опытный путешественник, — сказал он, когда все было сделано. — Сядем отдохнем… Вас не удивляет то, что я забираю все мои пожитки?
— Владимир Иванович сказал мне, что, вероятно, вы не вернетесь в Черноморск.
— Да… Во всяком случае, я намерен проситься на Урал, и, может быть, мою просьбу удовлетворят. Мне тяжел юг, бесконечная теплынь, курортная толчея на улицах. Пугает мысль, что и в этом году я не увижу настоящего сухого снега. Ведь вы южанин, не знаете, что это за штука, а северянину это забыть нельзя… Не привлекает юг и жену. Она настоящая уралка — как говорится, снегом крещенная. Мы с нею любим Урал… Там всегда много работы и скоро начнутся такие дела!.. Должны начаться. Богатства этого края просто кричат, требуют внимания большевиков… — Он спросил: — А вас куда тянет, Киреев?
— Пока адреса у меня нет.
— Адреса нет?.. Езжайте туда, где сами обстоятельства потребуют от вас напряженной работы и трудных газетных жанров — очерка, фельетона… Вы не забыли один из наших первых разговоров в редакции? С того времени вы очень выросли, стали надежным работником. По праву старшего я спрашиваю вас: чего вы еще ждете от газетной работы, чего хотите добиться как журналист?
— Точности, — ответил Степан. — Больше ничего, только точности.
— Точности? Ваши материалы безупречны. Вы математически точны.
— Вы говорите о том, что я про себя называю сейчас малой точностью, — возразил Степан. — Она далась мне нелегко, я ценю ее, но не горжусь ею. Ведь не горжусь же я тем, что умею писать слова, соединять их в предложения, расставлять запятые, точки! Быть точным в изложении факта, не врать — это такое же обязательное качество журналиста, как знание орфографии, например. Этим нужно обладать, вот и все… И в конце концов нехитрое дело — эта малая точность. Все сводится к внимательной записи в блокноте, к тщательной проверке и перепроверке написанного…
Наумов, сидевший на чемодане, снял пенсне и принялся протирать кончиком платка стекла, дыша на них; он молчал, ожидая продолжения, заинтересованный.
— Основной рабочий материал журналиста — факты действительности, — продолжал Степан. — Хорошим журналистом считается тот, кто вовремя и точно фиксирует эти факты. С этой точки зрения, я был хорошим журналистом, когда дал совершенно точную — фактически точную — заметку об утверждении проекта Верхнебекильской плотины. Малая точность была соблюдена…
— Как и в заметке Нурина об алмазах.
— Да, она была соблюдена, а какие бездны зла, несправедливости, преступления укрылись за протокольно точной двадцатистрочной заметкой! Моя вина, только моя вина! И этого не было бы, этого не случилось бы, если бы я владел большой точностью.
— Большой точностью? — задумчиво повторил Наумов.
— Так называю это я… Мы говорим о нашей печати, как о самом остром оружии партии. Это оружие борьбы и творчества, созидания. Это оружие должно быть безошибочным всегда и во всем. А ошибки, промахи, просчеты все-таки есть. Откуда они? Я не охватил факт утверждения проекта Верхнебекильской плотины во всех его связях, оторвал его от жизни, от конкретной обстановки, не проследил направленности этого факта, я взял этот факт таким, каким увидел его. А что скрывалось за этим объективным фактом!.. Нет, я не назову себя журналистом до тех пор, пока не увижу, что я верен большой точности. Рассматривать каждый факт в его движении и развитии, видеть его в соотношении с окружающей жизнью, с прошлым и будущим нашей борьбы — только так, только так, и не иначе. Лишь при таком подходе к факту можно правильно оценить его, то есть дать именно то, что нужно для нашего дела. Безошибочное и единственно нужное, созидающее… И дать это единственно нужное вопреки всему, отметая личные симпатии, презирая свой страх перед возможными неприятностями. Да, вопреки всему! Каждое слово, напечатанное в газете, должно служить делу партии в полную силу, безошибочно… Таким и должно быть мое перо всегда и при всех обстоятельствах… И оно таким будет! Это мое слово, Борис Ефимович!
— Хорошо! — сказал Наумов. — Дать и сдержать его может лишь сильный, смелый, самоотверженный человек. Вы говорите о большой точности, необходимой каждому журналисту. Я предпочитаю другое определение: партийность. Партийность, то есть борьбу за максимальную полезность для дела партии каждого слова, написанного журналистом ли, писателем ли — безразлично. Так?
— Да!
— Но как много надо учиться, как много надо знать, как безотрывно надо слиться с обществом, для того чтобы сдержать слово, которое вы дали… — сказал Наумов, надев пенсне и внимательно глядя на Степана. — Вы дали большое слово, клятву. Хотите, Киреев, сделать меня доверенным вашей прекрасной клятвы?
— Нельзя желать лучшего!..
Наумов протянул ему руку:
— Но для этого мы должны работать вместе, в одной редакции. Как вы считаете? В моем родном городе на Урале газету уже три месяца подписывает замредактора, вернее — замредакторы, потому что меняются они часто. Товарищи пишут, что в городской организации меня ждут именно как редактора… Если вы не передумаете, я пришлю вам с Урала подъемные. Согласны?.. Дробышев, конечно, будет ворчать, но я достану для «Маяка» в Москве двух работников из числа желающих переменить климат. А вас я теперь не выпущу из рук. Там, на Урале, вы найдете много работы, там, надеюсь, вы вступите в партию…
В коридоре послышались шаги и голоса. Дробышев, Пальмин и Одуванчик пришли проводить редактора. Дробышев был озабочен, неразговорчив и смотрел на Наумова укоризненно: дело шло к тому, чтобы весь «Маяк» лег на его плечи. Пальмин суетился — позвонил на станцию и справился, своевременно ли отойдет поезд. Одуванчик грустил.
— Знаешь, Степа, я очень расстроен, — сказал Одуванчик, когда они вышли на балкон. — Все говорят, что ты бросишь «Маяк» и уедешь в неизвестном направлении. Это правда?.. Зачем?
— Но ведь ты понимаешь меня… В Черноморске все будет напоминать мне о том, что случилось. Мне тяжело в нашем доме, на улицах, в редакции. Трудно жить и работать среди печальных воспоминаний. Надо переменить обстановку, начать все сначала, все заново. Уеду далеко, на Урал… И это к лучшему, Коля. Хорошо бы уехать вдвоем, а?
— Это заманчиво… — пробормотал польщенный Одуванчик. — Только не выйдет, Степа… Мне нельзя, никак нельзя. Я помогаю семье, я необходим ей. Подрастают сестренки и братишка, надо сделать их хорошими людьми, а для этого нужно, чтобы они росли у меня на глазах… Не смейся. Я строгий и справедливый воспитатель, в вопросах воспитания я, как это ни странно, мудрый прозаик… А моя Люся? Для нее южное солнце и я неотделимы. Здесь мы встретимся и обоснуемся навсегда. Это решено… Но ты не забудешь меня, мы будем переписываться? Правда?