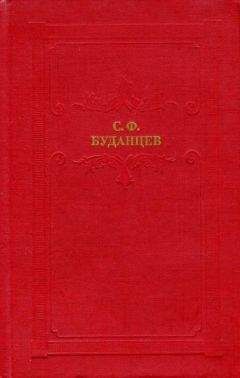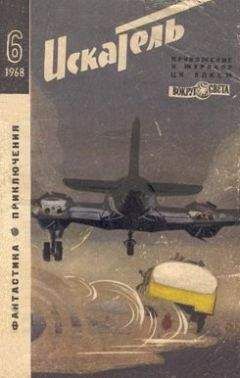— Ну, а что обо мне говорят на заводе? — в упор, неожиданно для себя брякнул Рудаков.
Мишин снова начал тянуть и прикидываться. Поминают ли любезного Виталия Никитича? По правде сказать, не часто.
— Да, не часто, милый Виталий Никитич. Очень не умеют у нас помнить даже замечательных людей. Чтобы запомнили, надо город переименовать, а ведь в нашу честь города не переименуют, даже улицу в районном центре не назовут. Память о замечательных людях — это признак высокой культуры. А чего вы хотите от нашего заводишки!
Все это было трудно переносить. Рудаков почувствовал даже тяжесть и ломоту у ключиц — и нечем дышать. Мишин выложил свои неожиданно толстые белые руки на покоробленную фанеру стола и любовался ими. Изредка вскидывал глаза на Рудакова, и тот понимал, что гость радуется его волнению. Гость чувствовал, что нужен хозяину, что тот ждет его рассказов, и тянул, и мямлил, и оба понимали игру.
— В сущности у нас нельзя удаляться, если не желаешь, чтобы тебя позабыли. А забвенье — враг успеха.
«Да говори же, черт тебя возьми!» — едва не завопил Рудаков, но тут же дошел до отчетливого соображения, что игру пора кончать, просто подавив любопытство. Он встал и, изображая старческое шарканье, побрел к балкону, остановился в дверях у косяка и вяло поглядел в пространство.
— Рассказывайте, я вас слушаю.
— Да, дело совсем плохо, — ответил живо Мишин. — Перед самым отъездом я зашел к главному инженеру, директор уехал в Москву. Как при вас, так и без вас одинаково: опыты по ваши рецептам проходят без всякого результата. Я — старый производственник, практик, могу заявить: не радуют ваши опыты, глубокоуважаемый Виталий Никитич. «А тридцать тысяч как кошке под хвост кинули» — это подлинные слова главного инженера. Он, знаете, немец, в выражениях не стесняется.
— Идиоты, — пробормотал Рудаков.
— Ну, конечно, помянул всю вашу затею с ультрафиолетовым стеклом недобрым словом и считает, что это вы облапошили старое руководство. Так уж хороший тон приказывает — валить все на старое руководство. Мы теперь с облаков спустились, не до ультрафиолетового, хоть бы по обыкновенному-то выполнять план. Я, конечно, никогда ничего не изобретал, но могу понять и разделить вашу печаль: сейчас не время заниматься изобретениями. Не до жиру, лишь быть бы живу.
— Это вы свои слова говорите или его? — спросил Рудаков.
Мишин повернул руки ладонями вверх — ладони были белые, в розовых подушечках, холеные, — и не ответил.
— Ах, да, — вдруг схватился он, — ведь вот я столько толкую об аккуратности, а сам… Ведь вам письмо от Френкеля. Рувим Аронович так наказывал, чтобы я в первый же день, как вас встречу, так и вручил.
Рудаков не слышал. Он вышел на балкон. Липа предстала тем, чем была на деле: деревом, собранием листьев, сучьев, посаженных на корявый ствол, химической лабораторией хлорофиллового зерна, плесенью на земной коре. Листья у липы были пыльные, траченные зноем. Совсем нелепо было воображать, что она похожа на живое существо, да еще так определенно: на прачку. Виталий Никитич сорвал два липовых шарика, пожевал и выплюнул с большим количеством жидкой слюны. Руки у него обильно вспотели от желания схватить кого-нибудь за горло. Он вошел в комнату и поглядел на себя в зеркало: коротконог, узок в плечах, много живота, голова, как пивной котел, — грубо и топорно, и тоже вроде плесени на земле.
— Идиоты, — сказал он. — Провинциальные идиоты. Вот вам и старый индустриальный район. Провинциализм заключается в том, что люди не верят в свою силу, к себе, к сотрудникам относятся: «где уж нам уж!» Столичный научно-исследовательский институт может расходовать миллионы, а у нас опыты подошли к концу, да страшно бросить последнюю тысячу.
«Все вздор я болтаю. Я провалился, вот что главное. Уехал из Ярославля, так всем и открывается мое ничтожество, даже такому Мишину. Меня надо выгнать в три шеи из промышленности, а я шарлатаню. И перед кем? Какое ему дело?»
— Вздор, вздор, — простонал он.
Мишин убрал со стола руки, вздохнул.
— Боюсь, вас не утешит и письмо.
— Ах, письмо… Ароныч! Ну, я потом. — И помолчав: —Я бы умер, если бы меня обрекли жить без пользы.
— Жизнь есть сон, — заявил Мишин, — бросьте огорчаться.
«Какие пустяки ему кажутся утешением! Я пять лет не мог разобрать, что он резонер и дурак. Мне уши прожужжали, а я еще спорил».
По какому-то сложному повороту мыслей Рудаков увидал себя поставленным в необходимость рассказывать что-нибудь необыкновенное бравое, легкомысленное и совершенно правдивое, потому что не умел врать.
— С чудной бабой я тут подружился. Ее во всякой толпе увидишь, яркая, полная, рослая, молодая, даже полнота не мешает.
Мишин мгновенно подпал под действие этого хвастливого самодовольства.
— Вы, дорогой Виталий Никитич, в огне не горите, в воде не тонете, — и он жалобно захныкал, что таким всегда везет, что у Виталия Никитича замечательный характер, лихой, веселый, горя не страшится, на будущее не запасает. Все это являлось полной противоположностью тому, что в тот момент испытывал (и наедине с собой всегда жил) Рудаков, да и нельзя было понять, выражает ли Мишин свое действительное мнение или по привычке перестраховываться, прикидывается, — и все же мнение о характере Рудакова, как о соединении черт веселы и легких, в той мере, в какой он был обращен к быту, к людям походило на правду. Рудаков сказал с досадой:
— Не скулите, Иван Михайлович, этого добра здесь… и на вас хватит. Если бы вы знали, как все мои отношения с этой женщиной просто и без затей сложились. Красота!
— Завидно. Вы знаете, любезнейший Виталий Никитич, как я не люблю эти одинокие поездки, знакомство с новыми людьми в таком количестве, как здесь предстоит. Мне просто страшно. Это мизантропией по-вашему, по-ученому называется. Я ведь привык жить бирюком, завод да жена, хоть и надоело. Не то, что вы: с детства в свете! Связи, мимолетные интриги разводы…
Ни в каком свете Рудаков не бывал и о существовании его был осведомлен только из книг, подобных тем романам «Родины», что читала сменная уборщица Леля. Он давно забыл слова которые произносил его собеседник. Тот же все стонал. Он напускал на себя зависть, как гримасу, которая должна был скрыть истинные чувства, и в самом деле преувеличивал успехи приятеля. Он представлял себе курорт, на который попал в первый раз, как некое блудилище под присмотром врачей. Ему с первой минуты было неловко таскать свой вислый живот в виду Эльбруса, в тенистом парке, помнившем, как он полагал, лучшие времена, под симфонический оркестр, среди превосходно, как ему казалось, и на загадочные средства одетых женщин и блестящих мужчин, которых он заранее и огулом считал соперниками.
Так они беседовали. Рудаков прислушивался, как внутри него осыпается песчаное сооружение, на котором он воздвиг здание своего покоя. Еще так недавно, несколько часов тому назад им владела мечтишка, он младенчески радовался, что справляется с неудачами на заводе каким-то заочным способом: забывает о них. В конце концов самая серьезная жизненная победа, — победа над смертью, — состоит в забывании о смерти, в бодрости под постоянной угрозой, в вере, что кого-кого, а меня-то он может миновать!
III
Честолюбие — это главная болезнь нашего века, — сказал бы рассказчик, будь он склонен к обобщениям и не знай, что данное обобщение повторяется многие века из года в год. То же можно сказать и о самолюбии. Но в каждом отдельном случае самолюбие и честолюбие существуют, соседствуя и не сливаясь. Рудаков сознательно и бессознательно искал области, где можно меньше подчиняться. Так он сделался изобретателем и оценил уединение. Френкель явился ему другом, потому что не ведал другой судьбы, кроме судьбы аккуратного исполнителя. Его письмо дышало доверием и внутренним достоинством пророка, который выполняет верховную волю пославшего его в безусловной уверенности, что воля эта разумна и полезна.
«Ваш путь математически правилен, — писал он. — Ультрафиолетовое стекло должно быть дешево, просто по изготовлению. Только тогда его появление сделает для здоровья человечества то, что сделало изобретение финикиянами мыла.
Ведь только дешевое мыло — великое безымянное открытие.
Только дешевое фиолетовое стекло вытеснит обыкновенное.
И тогда наши женщины будут загорать в комнате, как на пляже, дети здороветь, как в горных курортах, — и человечество вам скажет спасибо».
— Красивый слог, — бормотал Рудаков, — но парень глуповат.
Он перечитывал письмо в третий раз. В третий раз выуживал из него преданность, но не преданность лично ему, Рудакову, а преданность его идее. В выспренних строках проявлялось сочувствие общества к его работе и мысли. В таких случаях друг может заменить рукоплескания целой толпы. Может, но не заменял. Толпа не собиралась рукоплескать, а поглядывала пока подозрительным оком. И он боялся ее тупого недоверия и того, кто в него верил, готов был считать глупцом и несмышленышем.