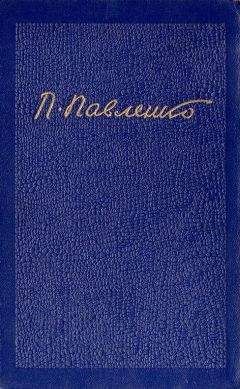Впрочем, ему-то что — ему, решившему оставить «Маяк»? Нет, дело было не в «Маяке» и не в репортерском зевке. Жизнь позвала его к движению, труду, и все, что стояло между ним и жизнью, стало ненавистным, невыносимым. Остановившись у окна, он с враждебным, чувством вглядывался в то, что окружало его изо дня в день, уже давно, давно… Двор, охраняемый тремя кипарисами, беленая мазанка Маруси, каменная ограда… И тишина, немая тишина! Что он делает в этом сонном царстве? Зачем он здесь? Все чужое, ненужное… Из своей мазанки вышла Маруся; приподняв крышку, заглянула в кастрюлю, стоявшую на мангалке; села на лавочке под кипарисом; увидев Степана, улыбнулась ему и сказала, что ужин скоро будет готов… Это Маруся? Опять Маруся?.. Он смотрел на нее с удивлением, почти с неприязнью. Как мог он до сих пор не замечать, не придавать значения тому, что девушка все время была возле него — молчаливая тень, не слышавшая от него ни слова и подстерегавшая его желания? Он шел из одного пустого дня в другой, занятый своими мыслями и печалями, а рядом скользила бесшумная тень, успевая обо всем позаботиться, для того чтобы он не заметил жизни: прибрать в комнатах, приготовить обед, положить у изголовья кровати свежее белье, переменить цветы в вазах. Она сделала его жизнь своей жизнью, и он принимал это как должное, он иногда даже недоумевал, не видя девушки, забыв, что она работает в госпитале и может отдавать Степану лишь свои свободные часы.
«Ожидание… Много силы в таком ожидании! — вспомнил он слова, слышанные от матери. — Она ждет… Отвадила Мишука, не обращает внимания на Виктора и ждет… Ведь это не так, не просто так она заботится обо мне. Пока я кисну, переживаю, обрастаю мохом, она служит мне и ждет, ждет… Из этих забот растут какие-то мои обязательства. Да, с каждой новой ее заботой, с каждой новой жертвой. Нехорошо, скверно…»
— Вы дежурили сегодня в госпитале, — сказал он, — и не отдыхали — стали готовить ужин.
Маруся взглянула на него почти испуганно, умоляюще.
— Почему вы никуда не ходите, все дома и дома? — продолжал он.
Показалось, что ее взгляд засветился усмешкой.
— А куда мне ходить? — спросила она. — Некуда…
— На бульвар послушать музыку, в кино…
Она встала; подняв обе руки, поправила свою черную корону из толстых черных кос и проговорила небрежно, но с едва уловимым вызовом, с намеком на что-то такое, что он должен был понять и без расспросов:
— Не с кем…
— А Виктор? — настаивал Степан. — Он ваш жених… И он сколько раз звал вас в кино.
— Жених? — переспросила она. — Нужен мне такой жених…
Уже по пути к себе в мазанку Маруся едва слышно рассмеялась, оборвала смех и, обернувшись, посмотрела на Степана внимательным, долгим и как будто гневным взглядом, призывая и приказывая, отчего вся кровь бросилась в его сердце, в голову. И Маруся поняла… конечно, поняла, что с ним происходит; отвернулась, сильно поведя плечами, и продолжала путь, унося свою молчаливую победу, свое торжество. «Прекрасная тень!» — шепнул он, стараясь вложить в свои слова усмешку, и почувствовал, что он вздумал отрицать действительность — свет солнца, синеву неба, красоту женщины, которая идет через двор, едва заметно покачивая головой, будто напевая беззвучно. Вот она всходит на крыльцо; открыв дверь, смотрит на Степана и скрывается в доме, оставив дверь открытой.
«Как все глупо, дико! — думал Степан, слоняясь из комнаты в комнату. — Когда же позовет Наумов? Нельзя здесь сидеть бесконечно, нельзя!»
Он выпрыгнул на пляж из окна, чтобы, чего доброго, не встретиться с Марусей во дворе… Песчаная полоса смутно белела в сумерках, неподвижная вода бухты отражала последние туманные отблески заката, с бульвара доносилась музыка. На неведомых лодках, проплывавших вблизи противоположного берега и скрытых его тенью, звучали голоса, смех. Каждый звук долетал по зеркальной воде, не нарушая тишины пустынного пляжа.
Ночь наступила сразу — безветренная и душная.
Заскрипел песок. Кто-то шел к Степану от дома, и он, еще не вглядевшись, почувствовал, что это Маруся, что это она, и никто другой. Его сердце вдруг сжалось и сладко и враждебно.
Девушка остановилась и стояла, неподвижная, молчаливая, ожидая его слова и решения, и он знал, что надо как-то разбить, разрушить ту силу, которая овладевает им помимо его воли, — сила жадного желания красоты и покорности.
Маруся тихо проговорила:
— Вы, Степа, может, думаете, что Витька Капитанаки… Вы не думайте, Степа… Та помолвка разве взаправду была?.. Со зла я… на вас. — И она добавила все так же тихо, но с гордостью, насмешкой: — Никто от меня ничего не получил и не получит! Какой я у мамы родилась, такой и приду к тому… кого люблю.
И замолчала, ожидая его отклика, его решения.
Он не ответил и не успел бы ответить. Послышался низкий напряженный шум сильного мотора. Быстроходный катер морской охраны, почти не касаясь воды, промчался к выходу из гавани; высокая волна, поднятая его винтами, с шипящим плеском набежала на песок. В ту же минуту на сторожевом судне, стоявшем у входа в гавань, вспыхнул прожектор. Узкий луч плотного белого света с фиолетовым отливом, прежде чем уйти в море, лег на бухту, расплылся в воде изумрудным пятном и вдруг осветил скалы, пляж. Он точно застиг Степана и Марусю врасплох, показав, что они слишком близко друг от друга, что лишь один шаг остался им до встречи.
— Иду домой, — отрывисто проговорил Степан. — Покойной ночи.
Она промолчала, отворачиваясь от беспощадно яркого света, блестевшего в каждой песчинке на пляже.
Эти несколько минут утомили Степана сильнее, чем целый день напряженной работы. Он попробовал читать, но книга выпала из его рук, и сон навалился глубокий, тяжелый. Проснулся он от звона разбитого стекла и не сразу понял, что случилось. Через комнату из окна в окно со свистом мчался ветер, вздувая занавески. С пляжа доносился торопливый, неровный, беспорядочный шум волн, выбросившихся на берег. Разразился шторм — первый быстролетный осенний шторм.
— Стекло вылетело? — спросила из темноты Маруся, когда он подошел к окну. — Вы ставни закройте.
— Хорошо… Почему вы не спите?
— Так…
Шторм гудел, бесновался. Шквалы слились в один непрерывный натиск; дом вздрагивал.
Почему-то Степан спросил:
— Виктор не приходил?
— Нет… Не видала.
— Ложитесь спать, Маруся. Отдохните после дежурства.
Когда он закрыл внутренние ставни, в комнате стало тихо, но душной и гнетущей была эта тишина, ненадежно огражденная от непогоды. Степан метался из угла в угол, чувствуя, что не может больше оставаться здесь, не может и не должен. Его сильное тело, его ожившая душа хотели жизни, и этот порыв к жизни был страшным для него сейчас, когда такой непрочной преградой были стены этого дома, дрожавшего от ударов ветра, когда достаточно было шепнуть имя девушки, достаточно было произнести его даже в мыслях своих, чтобы горячее сердце прильнуло к его груди. И он кричал себе: «Нет, так нельзя! Это худшее, позорное, подлое, потому что такова воля случая, моей слабости. Да человек ли я, в конце концов, или пешка в игре обстоятельств?»
Он застал себя на том, что пишет Ане — пишет, торопясь, бросая на бумагу свои мысли, как море в этот час бросало на берег свои волны — беспорядочно, будто хотело выплеснуться все до дна. «Получила ли ты письмо Одуванчика? И мои два письма? Если получила и не ответила, значит, все решилось… Это мое письмо — последнее. Больше ни одного слова, Аня, ни одного слова!.. Подожду еще неделю и затем сделаю то, что должен сделать и смогу сделать, несмотря ни на что. — И он подчеркнул последнюю фразу дважды. — Мне нужна жизнь, а жизнь — это не только любовь, Аня. Меня ждет работа трудная и нужная, я надеюсь, я хочу, чтобы она поглотила меня целиком. Такая жизнь станет моей единственной любовью. Я знаю, что эта большая и трудная любовь поможет мне устоять в моей беде, остаться человеком. — И вдруг на бумаге появились слова, которых он как будто не хотел писать, которые родились самопроизвольно. — Но ты понимаешь, понимаешь ли ты, что жизнь без тебя годы и годы будет мукой? Спроси свое сердце: возможно ли забыть человека, которого полюбил так глубоко, с которым связал свои надежды и которого любишь все сильнее? Если да, то научи меня, научи, как забывают! Может быть, ты уже овладела этой наукой — наукой забвения?.. — Вдруг снова вспыхнула, закричала надежда: — Нет, никогда мы не забудем друг друга! Мы завладели друг другом навсегда. Назначь мне место, где я встречу тебя, чтобы дальше пойти вдвоем и не разлучаться уже никогда. К чему нам разлука, к чему!»
Не перечитав, Степан запечатал письмо.
«Может быть, надо короче… и логичнее? Я слишком расписался», — подумал он, но тут же оставил эти сомнения, разделся и лег, прислушиваясь к шуму ветра. Шторм затихал. Дом еще вздрагивал от последних порывов ветра, но чувствовалось, что чудовище исчерпало свою ярость и его лапы уже не могут нанести сильного удара.