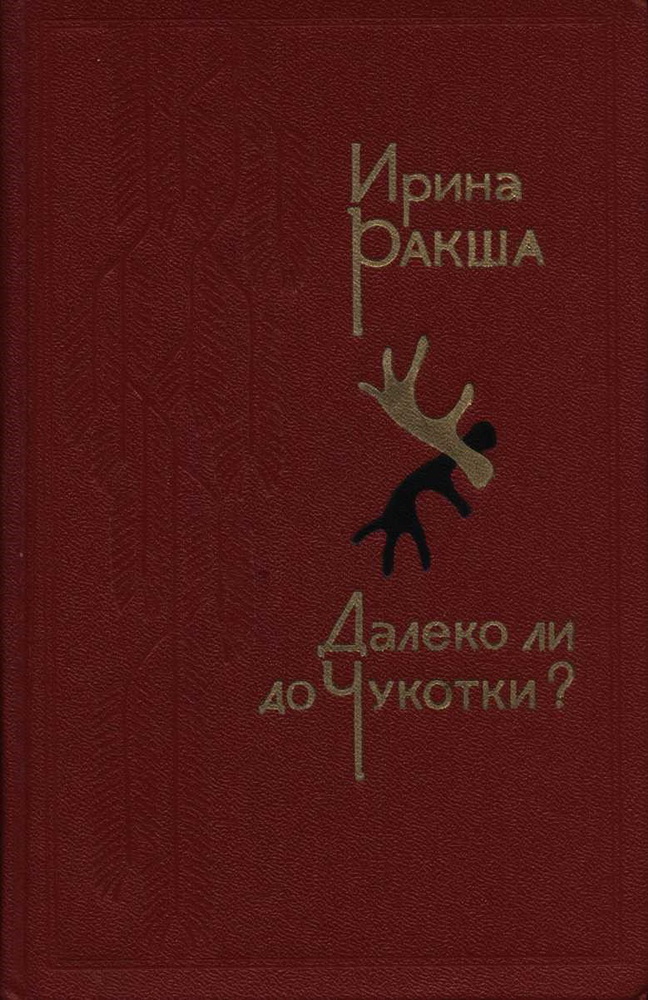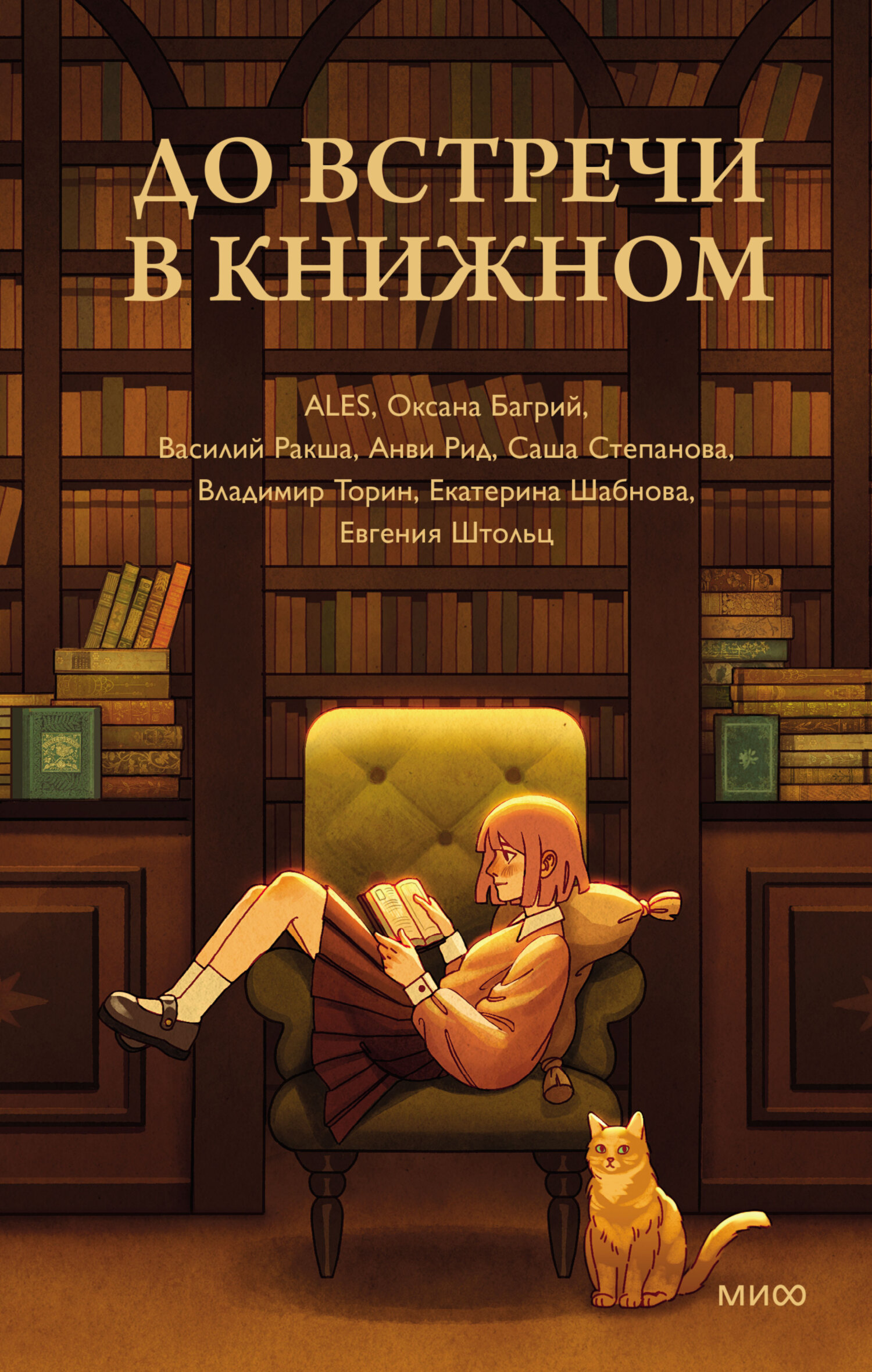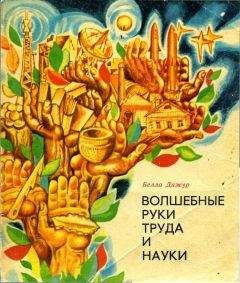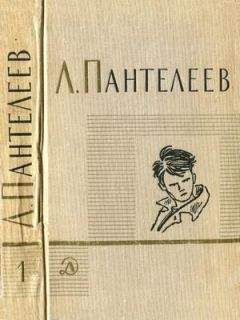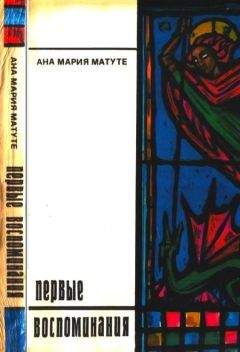отложила, приподнялась на локте.
— Проходи, Вера, садись, — грубовато и дружелюбно сказала хозяйка. — Сейчас ужинать будем. Вишь, девки мои, студентки, отдыхают. В поле нынче намотались с непривычки. Садись, садись.
Дробная музыка заливала избу. Клубок красной шерсти опять запрыгал в чугунке.
Женщина села у стола, на край табуретки. Темными, запавшими глазами добро взглянула на девчонок.
— Дело у меня к вам, — опять тихо и серьезно сказала она и вынула руки из-под фартука. — Письмо отписать надо, — и протянула новенький конверт с яркой картинкой.
— Да не трожь ты их, — вдруг недовольно протянула хозяйка, наливая воду в чугун. — Ты ж недавно писала.
Женщина обиделась. Поджала сухие губы.
— Еще надо. А тебе жалко, что ль?
— Да не жа-алко, — опять недовольно протянула хозяйка. — А устали девки. Чего зря расписывать-то.
Женщина помедлила, будто прислушиваясь к модной мелодии, льющейся из приемника, медленно поднялась.
Красный клубок в чугунке замер.
— Да что вы?! — обе девчонки разом соскочили с кровати. — Конечно, напишем. — И хозяйке: — Ну зачем вы так, нам же нетрудно.
Хозяйка только рукой махнула и вышла в сени.
Они расположились на краю стола. А девчонка, что в пестром платьице, выключив приемник, опять уселась за вязание.
В комнате стало тихо-тихо. И тогда женщина, подперев щеку темной ладонью, стала диктовать:
— «Здравствуй, милый мой Вася. Пишет тебе жена твоя Вера».
Она не мигая смотрела на первые строчки, появившиеся на белом листе.
— «Ты небось думаешь, непорядки у нас? И беспокоишься? Так ты не думай. Дочка-то наша нынче бумагу на бухгалтера получила. В район подалась… — Постепенно глаза ее будто оттаивали, улыбались. — Улетела голубка наша из дому. А красавица стала, а умница — не узнать. Председатель жалел, что уехала…»
Девчонка писала с перерывами, поднимая голову и молча глядя на женщину. Белые пряди упали на лоб. Строки неровными рядами шли по бумаге.
— «А Шурка вчера письмо прислал с моря. Приветы все шлет. Так ты об нем тоже не сомневайся. Отплавает — вернется. Помощником в доме будет. А костюм твой новый, шевиотовый, я на солнце вешала. Помнишь, он тебе в плечах узковат был…»
Женщина уже не смотрела в бумагу. Она смотрела куда-то за окно очень ясными, вдохновенными глазами и тихо говорила:
— «А сейчас одна я. Все жду да жду. Сарай бы починить надо. Вот скоро пенсию получу. Да еще в конторе дадут за работу. Мы нынче настоговали много…»
На секунду она замолчала. Потом уже деловито взглянула на лист и закончила:
— «Привет тебе от кладовщика Федора. От соседей наших Лезиных. А также шлет привет Надька-буфетчица, у нее весной внук родился. На том кончаю. С приветом к тебе. Жена твоя Вера».
Она бережно вынула из кармана и положила перед девчонкой пожелтевший, почти истлевший от времени треугольник солдатского письма:
— Адресок тут его. Вижу я плохо.
И девчонка прочла на конверте еле видные, стертые временем строки обратного адреса:
— Баутцен на Шпрее. Полевая почта… 2… 4… Горохову Василию.
— Точно, Василию. А Шпрее — это река такая в Германии, — пояснила женщина. — Он писал.
Девчонка медленно подняла голову. И женщина взглянула ей в глаза:
— А ты не знаешь, голубка, далеко это?
И девчонка потупилась:
— Далеко.
В избе смеркалось. Гостья, тихая и довольная, спустилась с крыльца. Мелко шагала она через двор к калитке. Ее руки под фартуком бережно держали письмо.
Девчонки молчали. Слышалось, как кипит в печи вода, гудит залетевший в комнату шмель. Вошла хозяйка с охапкой дров, бросила их к печи, вздохнула:
— В сорок пятом погиб, а до сих пор пишет. Ну а почта письма нам отдает. Так и ходит горе ее по избам… — И добавила — Мой-то раньше погиб.
Она зачем-то ушла в сени. И опять стало слышно, как тяжело гудит и бьется о стекло шмель.
Девчонка склонилась над журналом и написала слово из пяти букв по вертикали — «Шпрее». Потом подошла к окну и распахнула створки.
На улице было шумно и еще светло. По обочине, по свежей траве, мальчишки гоняли мяч. Где-то плакал ребенок. А далеко впереди уходила по белой дороге, к закатному солнцу, маленькая женщина.
У крайней избы, за сараем, на иссеченном пне топор нехотя жевал хворостину. Старик рубил медленно, не торопясь, аккуратно складывая нарубленное. Пар изо рта инеем садился на бороденку, на распахнутый ворот полушубка.
Со снегов на угоре, с нахлобученных крыш домов, с сугробов на узкой улочке поселка слиняли ночные темные краски.
Небо было еще темным и стылым, хотя снега уже посветлели и стала видна хмурая полоска тайги на горизонте.
Старик был сердит. Последнюю хворостину он с досадой доломал о колено. Потом, кряхтя, собрал все до щепки и, стараясь ступать в свои же глубокие следы, побрел к избе.
Улочка после бурана точно вымерла. Петухи молчали по сараям. Лишь тонко-тонко звенели провода над дорогой и крышами.
Толкнув дверь плечом, в клубах пара старик вошел в избу. Здесь пахло свежебеленой печью, кислой опарой. И синее окно с последними редкими звездами как бы висело на противоположной стене.
— Принесло же ни свет ни заря, — сказал он, возясь у печки с дровами.
У стола, скрестив ноги под лавкой, сидела девушка. В ушанке, штанах и ватнике она была похожа на мальчишку. У дверей, завалившись на бок, стоял ее большой запломбированный почтовый мешок.
— Эка. Всю ночь бездорожьем топала, — заговорил старик, чиркая спичкой. — А после бурана волки-то люты. Чего зря колготиться? Не то без пошты помрут твои совхозники! Теперь пошту твою никто и не ждет, — и махнул рукой на ее толстый мешок. — Буран снегу намел. А грейдер, — слово «грейдер» старик произнес очень четко, видно, оно ему нравилось, — медленный. Когда еще дорогу пробьет…
В печи уже колыхалось пламя, и красные блики плясали на хмуром лице.
— Ну, чего сиднем сидишь? Хозяйствуй, коли зашла. Грейся. Чай ставь. — И, глядя на нее, тонкую, усталую, лукаво пригрозил: — Не то хозяйку разбужу, а то и самого председателя.
— Что вы! — встрепенулась девчонка. — Что вы! Я ведь так, передохнуть зашла.
Старик беззвучно засмеялся:
— Испугалась? Да председатель-то сын мой. Сын, рано ему еще. Спит, — и кивнул на дверь, ведущую в другую комнату.
Потом поставил в печь чайник и стал раздеваться. Полушубок он повесил на гвоздь в косяке. Здесь же, у порога, скинул валенки, поставил их рядом с почтовым мешком и, оставшись в зеленом лыжном костюме на молниях и в белых высоких носках, прошел к шкафчику, стал выставлять на стол хлеб, солонину, квашеную