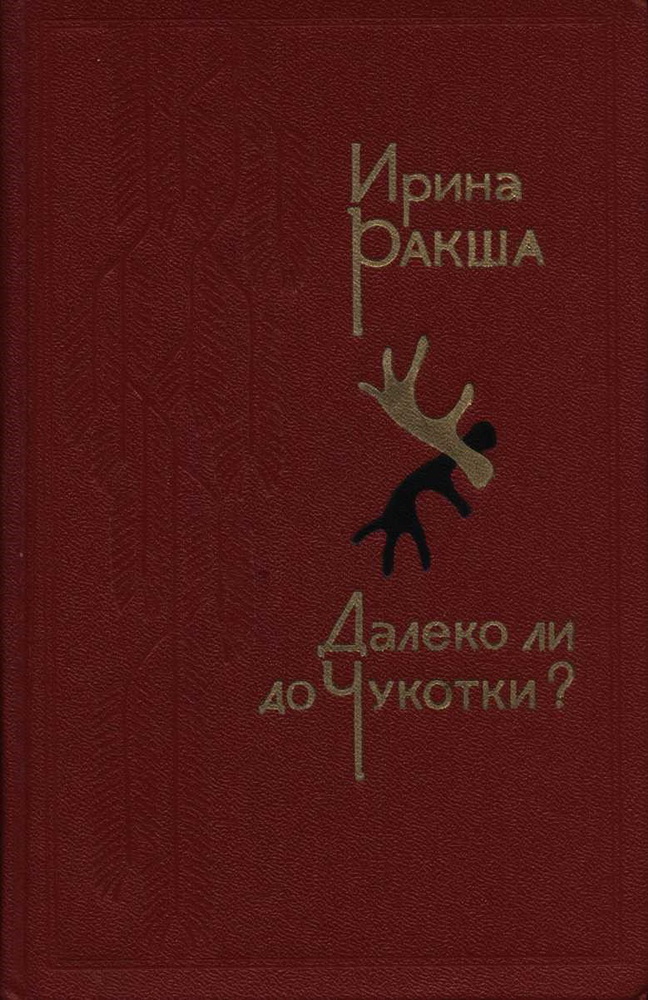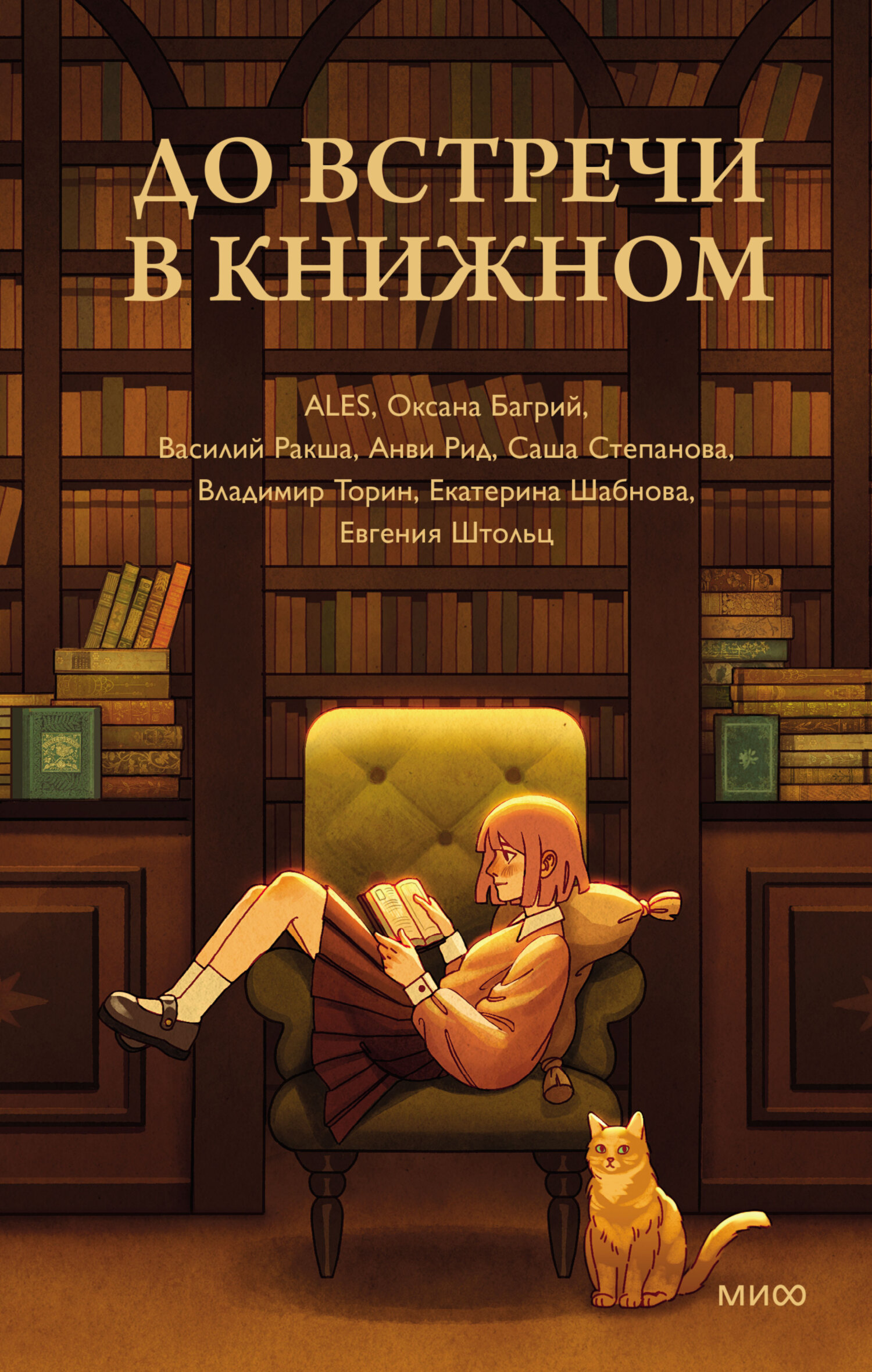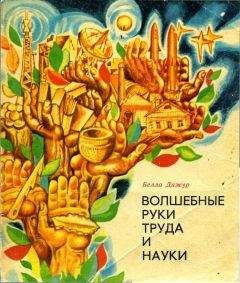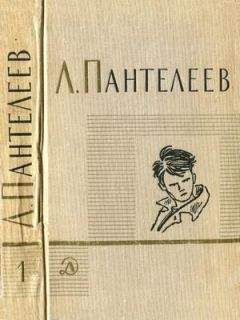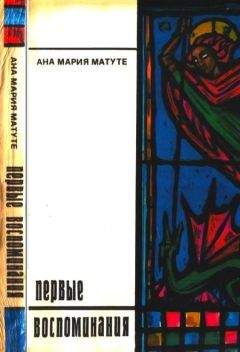На спасателе. Пока нас не затопили. А что, похоже, что с юга?
Она отвернулась:
— Нет, у меня отец там погиб в сорок третьем.
За окном густой тополь трепал по ветру листву, закрывая весь двор, подсобные детдомовские постройки, сараи.
— Он трудный, конечно, мальчик, — заговорила она серьезно. — Замкнутый, молчун, весь в себе, но удивительно честный, правдивый. Он стал бы хорошим сыном. За него я ручаюсь, — видно, очень был дорог ей этот Алик.
— Конечно, конечно, — кивнул капитан. — Я познакомлюсь с ним, но все же… понимаете, мне хотелось бы девочку. У меня ведь дочка была. В блокаду погибла. И жена погибла, и мать, — сказал он это спокойно и как-то устало. — Я коренной ленинградец, а вернулся и вот не мог дома жить. Не мог, знаете, двором своим проходить, особенно если дети играют. Скакалки там разные, классики. По лестнице не мог подниматься. А в квартире и вовсе. — Он поправил фуражку на колене. — Потому и уехал подальше от памяти. У вас вот осел, сухопутным стал, — усмехнулся. — Как сказал бы мой бывший старпом: «Осел в глубоком тылу». Веселый был человек мой старпом.
Она поставила чернильницу:
— Так что я вам советую, очень советую этого мальчика… Можно, конечно, и девочку. Но вы познакомьтесь сперва с детьми. Выберите.
В дверь постучали. За стеклом были видны расплющенные носы, размытые лица ребят. Дверь тихо открылась, и мальчик лет шести-семи вошел в комнату. Наголо остриженный, в девчачьей кофте, с быстрым, настороженным взглядом. От скорого бега он запыхался и теперь сдерживал дыхание.
— Здрасьте, — выдохнул он и уставился в пол. Конечно, он уже понял и увидел все, но боялся смотреть.
— Подойди, подойди сюда, Алик, — позвала директриса.
Мальчик шагнул к столу, не глядя на гостя, но всем своим существом чувствуя его взгляд.
За дверью притихли, уткнулись лбами в стекло, перестали дышать.
— Ну, чего там видно? — приставали задние.
— К столу подошел… стоит, — комментировал кто-то.
— А я бы сразу отца узнал. Я бы сразу.
— А может, это и не отец совсем. Вон Глазкова вовсе чужие взяли.
Кто-то шмыгнул носом:
— А я бы такого взял в отцы. Ну и пусть без руки. Я бы сам все делал.
Капитан не знал, как лучше начать разговор, спросил неуверенно:
— Так из какого ты города, Алик?
Тот тихо ответил:
— Не знаю. Там море было.
— А улицу помнишь? — спросил капитан, но тут же пожалел, что спросил.
Мальчик замер, лицо его побледнело. Ему хотелось вспомнить как можно больше. Ведь от этого зависело все. Может, вся его жизнь. Но улицу… нет, улицу он не помнил, и врать он не мог.
Капитан не знал, как и о чем говорить, как помочь малышу, и взглянул на женщину, ища поддержки. Но тут Алик тихо, отчетливо произнес:
— Я помню, как мы ходили с тобой по песку у самой воды.
Стало так тихо, что слышен был шепот ребят за дверью, шелест листвы за окном.
Волнуясь, женщина мягко спросила:
— А что ты помнишь еще?
— А еще я помню коня. — Он не смел поднять глаз на гостя. — Красного коня. Ты принес мне такого… красного.
Замолчал, мучительно вспоминая что-то еще. Напряженье было так велико, что ладошки рук его взмокли… Но он вспомнил! Вспомнил и поднял на человека счастливый взгляд, сказал на одном дыхании:
— Еще я помню, за окном у нас росло дерево. Такое большое зеленое дерево. Оно шумело… шумело… — Он рад был точности воспоминания. Для него это было так важно. И теперь… теперь он только ждал, когда же гость наконец откроется, признается, кто он.
И взволнованный капитан, глядя в его маленькое веснушчатое лицо, серьезно сказал:
— Ты прав. Под окном росло дерево, — и улыбнулся. — А за этим деревом было что?
И мальчик, не отрывая от него счастливого взгляда, громко сказал:
— Небо. Солнце! — Он был счастлив, но еще не смел сделать шага к этому долгожданному человеку.
А капитан вдохновенно спрашивал:
— А помнишь, как я учил тебя плавать?
И мальчик замер растерянно.
Опять стало слышно, как в коридоре толкаются дети.
— Я не помню, — прошептал он испуганно. Для него все теперь рушилось. Рушилось навсегда.
Но капитан взял его за худое плечико, повернул к себе и крепко встряхнул:
— Ну а песню? Ты же помнишь песню, какую мы пели с тобой?
Алик неуверенно поднял глаза:
Орленок, орленок, взлети выше солнца!
И капитан ответил взволнованно:
Лицо мальчика стало светлеть, он поверил в чудо. И вдруг, отстраняясь, тоненько затянул:
Навеки умолкли веселые хлопцы,
В живых я остался один…
Капитан, держа его за плечо большой ладонью, поддерживал низким, уверенным голосом:
Орленок, орленок, мой верный товарищ,
Ты видишь, что я уцелел.
Лети на станицу, родимой расскажешь,
Как сына вели на расстрел.
Теперь уже два голоса, неумелый мальчишеский и хрипловатый мужской, на удивление всем, звучали из кабинета директора детского дома. А сама она, маленькая, стриженая, в большом шевиотовом пиджаке, не в силах смотреть на это, ушла к окну и смотрела теперь сквозь слезы на расплывающееся зеленое дерево за стеклом.
— Он узнал его, — сказал мальчик за дверью.
Девчушка вздохнула:
— Я бы тоже сразу отца узнала.
Притихшие дети неслышно расходились по коридору и, конечно, думали, что их тоже когда-то отыщут, что за ними однажды тоже придет отец и, может быть, тоже окажется капитаном.
Нa Май гуляла вся деревня.
Дуськин сын тоже пошел с женой по красной от флагов улице за реку к теще. Дуся глядела им вслед — что ж, дело молодое, пусть гуляют. Она и сама с утра пораньше нарядилась в чистое, платок в горошек, жакет двубортный, почти что новый, и вышла своих проводить и флаг вот на дом повесить.
Мимо по улице народ тянется, к площади:
— С праздничком, теть Дусь! С победой!
— Взаимно, взаимно, — она приставила лесенку к бревенчатой кладке, с трудом поднялась наверх. А вот древко приладить, флаг укрепить уже никак не смогла — постарела, руки стали не те. Склонилась к окну, держась за белый резной ставень:
— Эй, Во-ов! Сань! А ну-ка…
И пока разгибалась да слезала, они уж, пострелы, тут как тут — чуть бабку не сбили:
— Баб, дай я! Дай мне… — Флаг из рук, и оба наверх по лестнице: — Ура-а! — Им только