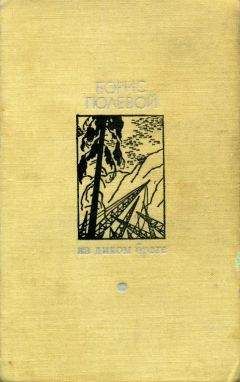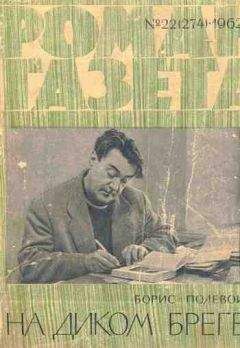Их подобрал грузовик колхоза «Красный пахарь», возвращавшийся из Дивноярска. Шофер, молодой паренек, ровесник Ваньши Седых и, как выяснилось, даже его школьный товарищ, втиснул обоих потерпевших в кабину, включил отопление и нажал на газ. Через десять минут машина затормозила у одного из крылечек председательского дома. Уже знакомая женщина в черном появилась в дверях, осветила острым лучом карманного фонарика их иззябшие лица:
— Господи Исусе Христе, сыне божий! Говорила же вам... — только и сказала она, сразу все поняв.
Но не разахалась, не пустилась в расспросы. Даже не выразив удивления, молча втолкнула их в прихожую.
— А третий?
— Как, он не приходил? — вскрикнули одновременно Валя и Игорь.
И снова, все без расспросов поняв, черная женщина схватила шаль и, толкнув гостей к теплой голландке, выскочила из дому. Дальше все пошло как-то само собой. Появился высокий, худой, рыжеватый молодой человек с военной выправкой. Скупо расспросил, как и что. Тем временем у крыльца уже галдели люди, стучали лыжи, скрипел снег. Вскоре тот же грузовик, уже набитый людьми с лыжами, с фонарями «летучая мышь», несся по дороге, расшибая светом фар белую кипень метели. Все это вспоминалось потом Вале, как отрывки приключенческого фильма. Она сидит в кабине рядом с рыжим человеком, и тот спокойно, как будто люди теряются в тайге каждый день, выспрашивает подробности. За стеклом несется метель, и в голове все время толкутся с детства памятные стихи: «Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкою луна...» ... — Спички у него были?
— Наверное, есть. Он курит.
— Костер зажигать умеет?
— Не знаю. Но он, наверное, все умеет. Шумная выгрузка, возбужденные голоса, стук лыж, собачий лай. Женщина, похожая на монахиню, с ружьем за плечами, на широких лыжах, подбитых мехом, по-мужски шагает по насту... Огонек фонаря, блуждающий меж кустов. Крики: «О-го-го-го!..» Волчий тоскливый, щемящий вой... Яростный лай собак, бросающихся куда-то во мглу, со вздыбленными загривками, ощеренными мордами... Осколок луны в небе... Черные деревья, возникающие сразу из метельной мглы... И много времени спустя издалека чей-то ликующий призыв:
— О-го-го-го, сюда!..
Лыжи, знакомые лыжи с красной полосой посредине. Они втоптаны в снег под невысокой елью. Множество звериных следов. Огонек фонаря бежит вверх по дереву, и там, в ветвях, скрюченная фигура в пестром свитере.
— Э-гей! Ты там жив?
Молчание. Еле слышный сквозь шелест снега дробный стук зубов.
— Юрша, Ванятка, лезьте на дерево! — распоряжается рыжий. Но карабкается сам, ловко цепляясь за сучья, подтягиваясь на руках.
Сыплется сухой снег. Голос сверху:
— Ишь, ремнем привязался. Эй, там внизу, я разрежу ремень, неравно сорвется, держите.
— Держим.
— Принимай...
Валя цепенеет. Человека, ее друга, опускают, как вещь. Он жив, но не может шевельнуть ни рукой, ни ногой, не может выговорить слова. Он только клацает зубами.
— Спирт, ребята, у кого спирт?
Спирта не оказывается.
— Кто помоложе, скидавай полушубок: домой так добежишь! — распоряжается рыжий.
Какой-то парень сбрасывает верхнюю одежду. Полушубок напяливают на Пшеничного. Женщина в черном снимает шаль, окутывает ему ноги. Пшеничный превращен в тряпичный ком. До дороги его несут на руках. В машине Валя опять сидит рядом с рыжим. Дар речи вернулся к ней:
— Ух, какое же вам спасибо! Простите, как вас звать?
— Тольша, то есть это по-местному Тольша... Анатолий Субботин.
— Жених Василисы?
Субботин улыбается и сам спрашивает:
— А вы ее знаете?
— Как же! Мы же к ней в гости и шли, только не застали...
— Васёнка с геологической партией двинулась... Разве не слышали? Ушла. Нашли они там что-то такое, что и до лета ждать не дали... Москва заинтересовалась, торопит. — Помолчали. Субботин о чем-то задумался. — ... Беда у них в доме: дед Савватей плох. Гаснет, а внучки, любимицы его, и нет... Эй, Сергунька, давай прямо к больнице.
— К полуклинике?
— Ну, к поликлинике, если ты так хочешь.
И пока где-то там за дверью, в новенькой, пахнущей еще не лекарствами и дезинфекцией, а сосновой смолой больнице, Пшеничного, раздев, опускают в ванну, где плавает лед, в коридоре женщина, похожая на монашку, истово крестится староверским двуперстным крестом. Потом оборачивается к Вале и Игорю, что задумчиво стоят у двери:
— Предупреждала вас. Нет же... Тайга баловства не любит. Запомните это, если в наших краях жить собираетесь.
Старый Савватей действительно угасал.
Железный его организм, закаленный таежными морозами и ветрами, яростно сопротивлялся болезни. Но старик заметно слабел, любое усилие давалось уже с трудом. Так же старался он хлопотать на пасеке, осматривал зимовавшие пчелиные семьи, давал им подкормку и в предвидении большого взятка, который, по каким-то его приметам, должен был быть на будущее лето во время цветения черемух и лип, сооружал запасные рамки. Он рассуждал: от смерти не спрячешься, не убежишь — и старался не думать о ней.
Но сил уже мало. Несколько минут труда — и взмокнет рубаха, подкашиваются колени. Мучит кашель, от которого не помогает уже ни одна из Глафириных трав. Врачей, приезжавших к нему из ново-кряжовской колхозной лечебницы, он потчевал медовухой, говорил с ними о политике и отправлял с честью. Лекарства высыпал в помойный ушат: по глазам медиков он давно уже угадал приговор.
Особенно досаждало, что не работается по-настоящему. Сидеть в избе без дела возле радиоприемника еще тягостнее. И вот влезал он в большой, из облезлой овчины тулуп, часами сидел на завалинке. Вспоминал. Думал о жизни. Любовался окружающим миром. И боже ж как хорош казался ему этот мир, даже маленький, ограниченный пределами таежной пасеки! Только вот теперь, когда уже пройден нелегкий путь и остались считанные версты, он, выросший на таежных реках, с мальчишеской поры приученный к рыболовству, знающий повадки любого лесного зверя, умеющий прочесть любой след, разгадать любой лесной крик и шорох, только теперь по-настоящему и увидел он красоту.
Эти поздние зимние восходы... Серые, холодные туманы начинают светлеть, розоветь, таять, и вот уже четко проступает зубчатая линия лесной опушки, потом, высвеченные первыми лучами, возникают над тайгой стрельчатые вершины высоких елей, и вдруг все розовеет, начинает искриться, и лес встает во всей красе — тихий, молчаливый, благостный. Как это славно! Бесконечное количество раз рождался на глазах Савватея зимний день, а он, погруженный в заботы, совсем этого и не замечал, бегал на лыжах по тайге, прислушивался к звериным шорохам, птичьему свисту, ставил в протоках плетенные из ивы морды или капканы на звериных тропах, весь поглощенный охотничьим азартом. Или слушал в омшанике равномерное шелестящее гудение пчел. Или что-нибудь строгал, пилил, мастерил. На восходящее солнце смотрел разве как на часы. А какая это, оказывается, краса!..
Да, сколько зимних дней родилось до него, сколько видел он их, и так же вот будет рождаться день, когда не станет ни его, ни пасеки, ни вот этой таежной чащи. И все на много верст вокруг покроет толща какого-то нового моря, и где-то там, наверху, выше той ели, где с утра возится, соря шелухой, белка, поплывут какие-то крылатые корабли, о которых ему рассказывает внук Ванятка. Савватею жалко и тайгу, и ель, и пасеку, и белочку. Но он очень хотел бы дожить до той поры, хоть разик поплавать на этих крылатых кораблях, если мальчишка их не выдумал, посмотреть всякие там электростанции, фабрики, заводы, которые тут строит Федор Григорьевич Литвинов. Хотел бы, ан не придется: полно мотать, Савватей, пора и узел вязать.
Крылатые корабли! А может, врет Ванятка? Он ведь насмешник, из теперешних! Для него, поди, дед как старая облигация, по которой ничего уже не выиграешь и не получишь. А впрочем, почему врет? Видели же они с внуком однажды этот спутник: летел, как звездочка в осенний звездопад, спешил куда-то и скрылся за лесом. А потом по радио говорили, что в звездочке этой сидела сучка и что какие-то люди на земле слушали, как она там тявкает, как у нее сердце бьется. Сучка в звездочке! Это тебе не какой-то там Иисус Христос по воде шлепает. Впрочем, Ванятка говорит, что теперь и такое возможно, бает, будто возле стройки ребята на лыжах по воде ходят... Конечно, из воды вино делать не научились, а вот из опилок спирт гонят за милую душу. И зовется в народе тот спирт «сучок». Эх, до чего же он поднялся нынче, этот самый Человек!.. Да, пожить бы, поглядеть, как-то дальше будет... И от мысли, что жизнь кончается, старику становится тоскливо, слезы навертываются на глаза, перехватывает горло давящий, надсадный кашель.
— Ну, полно, полно, Савватей! Вчерашнего дня не воротишь и от завтрашнего не уйдешь! — вслух успокаивает он себя.
Что это там на опушке? Никак заяц! Ну да, он, косой. Шубка-то бела, а снег белее. И до чего ж эта таежная тварь все чует! Разве летось заяц так вот на ружье бы полез? Да он днем пасеку-то за версту обходил. А сейчас — на вот, будто в гости приперся.