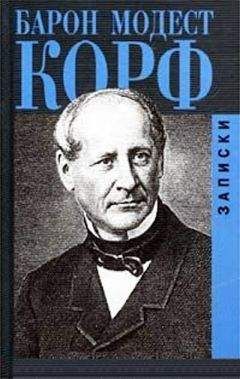В последней четверти прошлого века в одной из почтенных московских газет трудился Модест Анатольевич Ланин.
Он был человеком среднего возраста, и чем он стремительней приближался к своим пятидесяти годам, тем регулярней его посещало желание подвести итоги. И дело было не в юбилее и даже не в магии этой цифры. Не в озабоченности, не в дрожи: "Господи, вот уже столько лет, а, в сущности, ничего не сделано!".
Совсем напротив. Модест Анатольевич был из породы счастливых разумников, которые воспринимают умеренность как дар небес и залог гармонии. Чем меньше просишь, тем больше получишь. Довольствуйся малым — судьба воздаст. Там, где претензии, там и беды.
Все эти расхожие истины общеизвестны, цена им грош, однако ж на поверку оказывается, что сделать их своими непросто. Но Ланину повезло — не потребовалось воспитывать душу, обуздывать норов. Готовность к примиренности с сущим пришла к нему вместе с началом жизни.
Однако цену себе он знал, хотел, чтоб знали ее и прочие. Случалось, иной раз напоминал:
— Нет, за полвека чего-то добился и что-то сделал. Уж не взыщите — я очень хороший журналист.
Тут не было и тени бахвальства. Был наделен и чувством слова, и чувством стиля, и той свободой, которая метит профессионала.
Располагал он к себе и внешностью — поджарый блондин выше среднего роста, с немного удлиненным лицом, с влажными карими глазами.
Неудивительно, что в редакции он занимал почетное место — не только заметное и устойчивое, но — безусловно, привилегированное. Оно давало приятное право на выбор темы и материала.
Естественно, мужчина-добытчик должен иметь свой прочный тыл. Тут тоже все выглядело надежно. Женился он достаточно рано, сам удивлялся, но так сложилось, был юн — зажегся, кровь закипела. Потом он признался одной конфидентке:
— Возможно, что я и недогулял, но мне отчаянно захотелось, чтоб эта женщина была рядом.
Дама спросила:
— Всегда под рукой?
Он согласился:
— Был брачный возраст.
А впрочем, о выборе не жалел. Полина Сергеевна Слободяник была весьма рассудительной девушкой и стала образцовой женой. Стремительно родила ему дочь, легко оставила свою службу в одном из ведомственных издательств, сосредоточилась на семье. Была улыбчива, но не развязна, дочку любила, но материнство не отразилось на иерархии, установившейся в их семье — место Ланина осталось незыблемым.
Он был благодарен своей судьбе. После десятилетий брака требовать от Полины страсти было бы не слишком разумно. Естественно, в сумеречные минуты, когда он беседовал сам с собой, его не однажды колола мысль, что милая Поленька Слободяник, по сути — одна из знакомых дам, однако в отличие от других делит к тому же с ним кров и ложе, и видятся они ежедневно. Возможно, в этом есть своя странность, но к этой странности он привык, а стало быть — это часть обихода, похоже, и часть его самого. Он вспоминал, как в толстовском романе герой рассудительно уподобил жену свою пальцу: "Ну что, я люблю его? Однако ж, попробуй, его отрежь…".
Отцовство не оказалось сложной и обременительной обязанностью. Аделаида была покладиста, хотя прохладнее, чем хотелось. Впрочем, дивиться тут было нечему. Девочка в детстве была говорлива, но Ланин ей внушал то и дело:
— Чем меньше болтаешь, тем больше весишь.
Это была больная тема. Ланину доставляло страдание его неумение помолчать, казалось, его донимает страх, что если он не будет активен, общенье иссякнет само собой. Словно заботясь о собеседнике, он брал на себя его обязанность поддерживать огонь в очаге.
Все та же неясная зависимость, которая так его удручала! С тем большим усердием и раздражением учил он Аделаиду быть сдержанной — хотел остеречь и уберечь, дискуссий не выносил он с юности.
Защитный инстинкт ему подсказывал: участвуя в споре, всегда проигрываешь. Взятая пауза не подавляет — в ней нет укора и нет протеста. Она оставляет тебе пространство и для согласия, и для маневра.
Тут, правда, возникало внезапное малоприметное противоречие между умением помалкивать и беспричинным глухим молчанием, таившим в себе непонятный вызов. Больше того, такое безмолвие могло стать тягостным для собеседников — этого тоже он опасался.
Его, случалось, обескураживало это досадное несоответствие меж правилом и его применением. Он объяснял его грустным изъяном доставшейся ему с детства натуры. Натура не желает уняться, сопротивляется его опыту. Чем больше он себя укорял за неумеренную активность, тем чаще напоминал он Аде, как важно быть сдержанным человеком.
Подобная неусыпная бдительность, по-видимому, приносила плоды. Ланину не приходилось ни каяться, ни укорять себя за ошибки.
И уж тем более за безделье, неповоротливость, немобильность. "Трудолюбив я, как муравей", — так похвалил он себя однажды, хоть муравьем себя не считал. Впрочем, в микроскопической дозе кокетство может сойти за скромность.
Он был уместен в любом застолье — ровен, тактичен, коммуникабелен. И так же легок и обходителен был в повседневном круговороте. Отменная смесь старомодной учтивости и нынешней отстраненной корректности. Она позволяла поддерживать связи, при этом соблюдая дистанцию. Дистанция, — как-то сказал он дочери, — тебя защищает, хранит от обид и от неизбежных открытий. Поверь мне, ближний бой — это риск. Люди должны проходить пред тобою в дымке — с одной стороны, их видишь, с другой — они все на одно лицо.
На эту догадку его навела сама долговязая Аделаида. Однажды он возвращался домой. Погода была на удивление — тихо, прохладно, воздух струится, словно целебная терпкая влага. Вблизи, немного опережая, шагала рослая амазонка. Прямая спина и крупный шаг — в каждом движении независимость. Понадобилось пройти полквартала, чтоб он опознал в ней родную дочь.
Случай забавный и пустяковый, смахивающий на анекдот, но неожиданно для себя Модест Анатольевич огорчился. У Ланина был неспокойный ум — помеха при его образе жизни. Вместо того чтобы рассмеяться, он вдруг подумал: мне предстоит скорый распад семейных связей и неизбежное отторжение того, что есть, от того, что ждет.
Сказать об этом ему было некому, меньше всего Полине Сергеевне. Он вспомнил, что четверть века назад она не взяла фамилии мужа, осталась Поленькой Слободяник. Конечно же, в этом была демонстрация. Она пожелала тогда подчеркнуть, что все сохранится в неприкосновенности — ее особость, самость и личность. Все будет, как было до этого дня, когда она стала женою Ланина — ее приятели, ее игры, ее посещение концертов.
Впрочем, существовал человек, с которым он мог обсудить забавы и поделиться тревожной думой. Ланин нисколько не сомневался, что в этой душе он найдет понимание. Но именно с таким человеком не стоило обсуждать эту тему.
* * *
Милица Аркадьевна Лузгина трудилась на ниве общественных связей, была округлой пушистой дамой, склонной к умеренной полноте. Эту опасность Милица Аркадьевна знала и за собою следила.
Но еще больше она заботилась о собственном общественном весе. Однажды она на себя возложила не слишком легкую роль наставницы, морального арбитра, инстанции, в которой неспешно и неотвратимо выносится последний вердикт.
— Вы выбрали нелегкую миссию, — сказал ей со вздохом Модест Анатольевич, который любил ее посещать.
— Она меня выбрала, я не рвалась, — откликнулась Милица Аркадьевна.
Она обитала в поблекшем доме, однако расположенном в близости от кровеносной столичной артерии — длинные окна ее квартиры поглядывали на Страстной бульвар.
Первая комната была узкой, продолговатой, сходной с предбанником, вторая — наоборот — квадратной, заставленной мебелью, главное место в ней занимала тахта хозяйки.
Широкое удобное ложе, которое прожило на земле немногим меньше его хозяйки, в самые первые дни знакомства иной раз навевало на Ланина фривольные и грешные мысли. Однако это длилось недолго. Милица Аркадьевна была не только дамой приятной в живом общении, но дамой духовной и сознающей свое мессианское назначение. Ланин примкнул к многочисленной пастве, истовой, ревностной и ревнивой. Паства встревожилась, но смирилась. Пристрастия и выбор наставницы не подлежали обсуждению.
Однако же Модест Анатольевич не мыслил себя человеком свиты. Еще не вполне укрощенный норов иной раз напоминал о себе. Возможно, он именно так расплачивался за утомительную покладистость, которая давалась непросто.
Вот и на сей раз — он заигрался. Несколько несдержанных слов, несколько неосторожных действий, и он со смущением и испугом понял, что отступать уже поздно. Теперь неуклюжая ретирада могла уронить его репутацию, а он был болезненно самолюбив.
Осталось лишь вздохнуть и зажмуриться, не рассуждая, шагнуть напролом. Милица Аркадьевна оказалась великодушна — простила горячность и оценила его решимость. Ланин, готовый к обиде, к отпору, был неожиданно вознагражден.