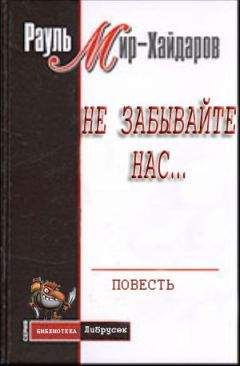Посвящается отчиму Исмагилю Зарифовичу Мифтахутдинову
Письмо пришло перед самым отпуском, когда путевка была у Бекирова на руках, да и билет уже заказан. Писем от матери Фуат Мансурович не получал, пожалуй, лет восемь, с тех пор, как однажды, заскочив на пару дней погостить по дороге с моря, установил старикам телефон. Установить телефон на селе — дело еще более тягомотное, чем в городе, но Бекирову повезло: начальником телефонного узла оказался давний школьный приятель.
Сославшись на срочную работу, Фуат Мансурович, даже не допив чай, ушел в кабинет, прихватив конверт, лежавший на журнальном столике. Дел у него никаких сегодня не было, что случалось нечасто,— у главного инженера крупного строительного треста работы обычно невпроворот, суток не хватает, считанные дни в году оказываются выходными. Трижды перечитав написанное карандашом письмо, Бекиров успокоился и даже улыбнулся. Улыбнулся он тому, что помнил этот химический карандаш еще со студенческих лет, мать надписывала им посылки. Теперь редко кто пользуется такими карандашами, все больше шариковыми ручками. Таким же карандашом был написан и единственный отцовский треугольничек с фронта.
Для порядка посидев в кабинете с полчаса, перелистав журналы и сделав несколько звонков на домостроительные комбинаты, работавшие в три смены, Фуат Мансурович вышел с письмом в столовую. Жена с сыном еще пили чай. С тех пор как в школе начались уроки эстетики, сын настоял, чтобы ужинали в столовой, и сам с особым старанием накрывал на стол, к удивлению родителей, ничего пока не разбив из парадного китайского сервиза. Жену это нововведение поначалу сердило, а Фуата Мансуровича, наоборот, веселило, но скоро вошло в привычку и теперь нравилось всем; удивительно, сколько лет теснились в крошечной кухоньке и смотрели, как пылилась красивая, удобная посуда.
Не успела жена налить Фуату Мансуровичу чаю, как сын торопливо спросил:
— Что-нибудь случилось у бабушки?
Бекиров улыбнулся и сказал, что ничего не случилось, просто дедушка выходит на пенсию, а в трудовой книжке то ли записей каких-то недостает, то ли где-то с отчеством напутали. С татарскими именами напутать немудрено, встречаются такие имена–отчества — язык сломаешь, не то что буквы перепутаешь. Вот дед ходил–ходил — из одной двери в другую гонят, из одной конторы в следующую выпроваживают,— да и обиделся, говорит, не надо мне вашей пенсии, пока руки–ноги целы, не пропаду, а что записи не сделаны, так мое, мол, дело было работать, а бумажки писали другие. Домашние хорошо знали характер деда и живо представили себе эту картину. Писала бабушка, что уже полгода бумаги лежат без толку, а дед строжайше наказал ей не вмешиваться в его дела и вообще о пенсии запретил всякие разговоры. «А жалко ведь старика, сколько на своем веку потрудился, да и обидно ему, я же вижу»,— заканчивала бабушка свое торопливо написанное письмо.
Приглашала Минсафа–апа сына приехать в отпуск домой, отдохнуть и подтолкнуть дедовы дела. Все-таки человек образованный, законы знает, да и многие друзья его школьные теперь в начальниках ходят, может, помогут старику. Ведь, считай, на людских глазах век прожил, не таился, и работал-то всю жизнь в Мартуке.
Фуат Мансурович ждал этого отпуска с нетерпением, летом отдыхать выпадало ему не каждый год, чередовались с управляющим трестом. Лето для строителей — что жатва для хлеборобов: три четверти годового плана тянет. Да и путевка была желанная — к морю, в Алушту,— великими трудами добытая.
Выросший в степи и поздно, лет в двадцать семь, познакомившийся с морем, Фуат Мансурович полюбил его безоглядную манящую ширь. Целыми днями он пропадал на берегу и, уезжая, подолгу скучал, считал дни и месяцы до нового свидания. Домашние знали об этом, но не разделяли его тягу к морю, предпочитая лес, тихие озера, поля,— наверное, оттого, что жена была родом из Белоруссии. Однако, понимая, что работа выматывает Бекирова до предела, всегда старались создать ему условия для полноценного отдыха. Потому они и огорчились, что у отца может сорваться путешествие к морю. О том, чтобы отложить поездку в Мартук, и речи быть не могло. Правда, вызвалась поехать жена, обещала уладить все сама, все-таки юрист, народный судья, но Бекиров знал, как бы это огорчило Минсафу–апа, потому и решил отправиться сам.
Жена дала ему справочник по социальному обеспечению, на всякий случай кое-где закладки вложила. В общем, казалось, что за неделю, ну, максимум дней за десять он уладит дела и еще успеет к морю. С тем и отбыл он в родные места.
Бекиров свыкся с поездками. Трест был республиканский, и объекты находились в каждой области, в каждом городе, а теперь вот и аграрно–промышленные комплексы начали возводить в районах. Так что начальники не особенно засиживались в кабинетах. Но с железной дорогой у него были связаны и давние, юношеские воспоминания. Учился он неподалеку от дома, в пяти часах езды, в Оренбурге, и домой наезжал через неделю: то картошки прихватить, то каравай домашнего хлеба, тогда в Мартуке еще в каждом доме пекли свой хлеб, то яиц, а зимой иногда и мяса. В первые годы студенчества тянуло к друзьям детства, к мартукским девчатам. Уезжал он из дома в полночь ташкентским почтовым. Сразу после танцев в районном Доме культуры забегали веселой гурьбой к Бекировым, где Минсафа–апа поджидала с самоваром, а отчим давно уже спал. Наскоро, подшучивая друг над другом, пили чай, потом кто-нибудь прихватывал тяжелую спортивную сумку Фуата, а он, стесняясь материнских ласк, торопливо прощался с матерью; и опять с шумом, распевая что-нибудь залихватское, компания подавалась на вокзал. Ездил он, как и все студенты, в переполненных общих вагонах, каким-то чудом всегда отыскивая свободную багажную полку у самого потолка, и, тут же умостив под головой сумку, проваливался в крепкий молодой сон. А иногда подолгу стоял в безлюдном тамбуре, не замечая холода, вспоминал с нежностью, до слез в горле, как это бывает только в молодости, какие замечательные у него друзья и какая прекрасная девушка согласилась проводить его. Вот тогда он и полюбил поезда, хотя ни разу не ездил в роскошных спальных вагонах, где зеркала во всю дверь и яркие ковровые дорожки устилают коридор, а на нежно–зеленый велюр мягких диванов падает интимный свет матовых ночников.
Стоя у окна, вглядываясь в выжженную жарким солнцем бескрайнюю казахскую степь, Бекиров то и дело мыслями возвращался к отчиму. Нет, не о предстоящих пенсионных делах думал он. Сейчас, под мерный стук колес, он остро ощутил, как коротка человеческая жизнь. О том, что она коротка, в свои тридцать семь Фуат Мансурович, разумеется, знал, но так остро, до волнения, он почувствовал это только теперь. Как же так? Этот как будто совсем недавно гибкий, по-юношески стройный мужчина, мастерски игравший за «железку» в волейбол и приезжавший к ним на сиявшем хромом и никелем голубом трофейном велосипеде «диамант» — неслыханной роскоши на селе послевоенных лет,— уже уходит на пенсию. И еще более странным казалось то, что он, ловкий и смелый, имевший в селе больше всего орденов, нуждался сейчас в его, Фуата, помощи. А ведь когда-то, мальчишкой, он с отчаянием думал, что ни на что не сгодится в жизни, а уж стать таким человеком, как отчим,— казалось совсем невероятным. Да и мог ли он тогда подумать, что когда-нибудь хоть чем-то сможет помочь Исмагилю–абы? Конечно, нет! Даже сейчас, почти через тридцать лет, Бекиров словно услышал в пустом коридоре задорный смех сильного, уверенного человека — так смеялся отчим.
Встречала его мать. Не видел ее Фуат Мансурович лет пять. Минсафа–апа в последние годы сильно сдала. С тех пор как его перевели из управления в трест, и отпуск не каждый год выпадал, да и к морю тянуло, однажды всей семьей даже в Болгарии побывали, день в день уложились,— Бекировы все откладывали поездку к старикам на следующий год. Да и сама Минсафа–апа перестала приезжать в гости, ноги стали побаливать, а в поездах теперь, хоть зимой, хоть летом, не протолкнуться, словно весь народ великое переселение затеял, мука одна, а не дорога. Самолетом мать летать побаивалась. Кто ее знает, эту крылатую машину, на колесах спокойнее. И главный довод у матери — корову не на кого оставить, прежние соседи в город, к детям подались, а новые, интеллигенты, сами ни скота, ни птицы не держат, не то что за чужим хозяйством приглядеть. Корова же уход любит, времени требует. Так вот и не виделись лет пять, а для тех, у кого время не в гору, а под гору бежит, ох, как заметны эти долгие годочки.
Мать Фуата Мансуровича долго красивой и статной была. Не зря, наверное, завидный жених Исмагиль ее с ребенком взял, хотя в каждом доме невеста любого возраста нашлась бы. Трое, трое всего парней вернулись в Мартук с войны, а ушло… лучше и не вспоминать.