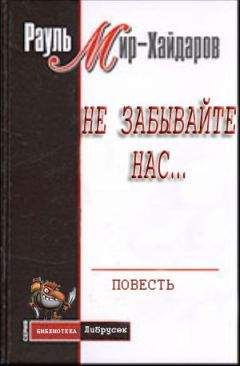Память матери удивляла сына еще потому, что, проработав на одном предприятии много лет, отчим сменил десятки профессий — попробуй упомни. Нет, Исмагиль–абы никогда не был летуном, бездарью, неумехой. «Золотые руки, золотая голова» — так говорили все про отчима, это Фуат Мансурович слышал сам, и не раз. Дело было в ином: артель долгие годы была маломощной, да и планирование, как теперь понимал Бекиров, бестолковым, как и во многих и многих маленьких местечках, подобных Мартуку. Чуть ли не каждый год открывались одни цеха и закрывались другие. Едва какой-то цех, обучив людей, начинал набирать силу и кое-как выполнять план, обрадовав забрезжившей надеждой хорошего заработка, как бессменный председатель артели Иляхин вынужден был нести рабочим горькую весть: закрывают производство по велению областных деятелей. А через год артель, растеряв оборудование, людей, спешно организовывала тот же цех, зачастую для изготовления прежней продукции.
Каких только цехов не имела артель: и шорный, и кондитерский, и даже сани делали — кошевые, легкие, быстрые, в них разъезжали председатели колхозов всей области. Богата все же наша земля умельцами и толковыми мужиками, если даже в крошечном Мартуке за любую работу брались — хоть чесанки валять, хоть тулуп, полушубок справить, хоть шаль–паутинку связать, и получалось одно загляденье, так что память о них до сих пор не выветрилась. А все артельные ликвидации начинались с сокращения штатов. Но миновала чаша сия Исмагиля–абы — работник он был умелый и безотказный, да и по праздникам при всех орденах, которым было тесно на его неширокой груди, сидел всегда в президиуме, так что неудобно было с фронтовиком худо обходиться. Пряча глаза в пол или отводя их в сторону, говорил обычно Иляхин: «Ты уж, Алексей, не обессудь, опять в новый цех учеником пойдешь, ты одолеешь…» Потому-то и встречались Фуату Мансуровичу ведомости с графой, где отчиму причиталось 280–320 старых рублей, а работали тогда не только без свободной субботы, но и воскресенья частенько прихватывали.
Минсафа–апа вспоминала не только грустное; вдруг, казалось бы, не к слову, глядя в те же графы, она говорила, что это был месяц выборов. Тепло, волнуясь, с посветлевшим лицом называла по имени–отчеству тогдашних депутатов. И Фуат Мансурович, уже вполуха слушая мать, видел радостные, праздничные дни выборов в Мартуке. Главный агитпункт, где проводились и сами выборы, располагался тогда в школе, и по вечерам в агитпункте уже за месяц до срока играла радиола, ярко горели огни. А в день выборов затемно, когда он еще спал, родители уходили голосовать. Возвращались веселые, возбужденные, видимо, успев пропустить рюмочку–другую с друзьями, сослуживцами, родственниками; дело не зазорное в такой всенародный праздник, а мать еще и напляшется и под русскую гармонь, и под татарскую тальянку с колокольчиками. Возвращались они всегда с чем-нибудь вкусным: апельсинами, халвой, ржаными пряниками или копчеными лещами, товарами редкими и потому памятными.
Позавтракав, он и сам, торопливо одевшись, бежал в школу. Празднество уже было в разгаре. В зале под радиолу танцевала молодежь, в классах — под баян, аккордеон, гитару, в каждой компании свой инструмент — плясали или пели люди постарше, семейные. Работали буфеты, магазины. Торговали пивом, по такому случаю щедро завезенным из города. А во дворе школы стояли запряженные каурые секретаря райкома. Дуги, сбруя, да и сани были ярко украшены. В санях стоял ящик для голосования, обитый кумачом; прямо к дому подъезжали к старым и немощным, чтобы и те смогли отдать свой голос за кандидата, которого поддерживал весь Мартук. Праздник начинался вечером накануне; молодежь и не расходилась до утра, голосовали первыми, к десяти утра Мартук уже рапортовала о выборах в область, а праздник, рекой выплеснувшись на улицы и в дома, продолжался до позднего вечера.
Захваченные воспоминаниями, засиживались они с матерью иногда часами, а однажды проговорили до самого обеда, опомнились, только увидев у калитки отчима. Фуат Мансурович от растерянности не все бумажки успел припрятать, но Исмагиль–абы, к радости матери, не обратил на них внимания.
За столом, или поливая с отчимом по вечерам огород, а то мастеря что-нибудь по хозяйству,— дел в любом доме всегда с избытком,— Фуат Мансурович лишь изредка перекидывался о отчимом малозначащими фразами, в основном только по делу. Бекиров уже успел заметить, что у мужчин контакты со своими отцами со временем становятся гораздо труднее, сложнее, что ли, чем у женщин; у тех, кажется, наоборот, с годами дочери теснее сближаются с матерями. Может, оттого сейчас так получалось, что в детстве Бекиров и его сверстники не видели дома такой уж большой ласки, и вообще не до того тогда было. У родителей одна была забота — как бы накормить ребятишек, обуть, одеть. Уходили на рассвете, приходили с закатом, но заработанного едва хватало, чтобы свести концы с концами. До ласк ли было…
Фуат, хоть всего шесть лет ему исполнилось, не называл отчима отцом, потому что уже знал — его отец, танкист, погиб под Москвой; да и позже никогда не называл его «ати», а всегда «абы». Хотя, помнится, поначалу Исмагиль–абы, чтобы привык к нему парнишка, много времени потратил на него. Рискуя расшибить, ободрать сияющий хромом «диамант», научил его раньше всех мальчишек кататься на велосипеде. И санки, и коньки самодельные, и лыжи–самоструги сделал Фуату, но так ни разу и не услышал долгожданного «ати». Вспоминая это, Фуат Мансурович даже сейчас не мог понять причину детского упрямства. Ведь у многих не было отцов, а у него был, такой замечательный, веселый, да еще с орденами — и Фуату завидовали все мальчишки, считая, что дядя Алексей самый сильный в Мартуке, хотя и намного меньше ростом, чем отец Петьки Васятюка.
В отсутствие матери Фуат Мансурович открывал окованный медью старый китайский сундук, некогда девичье приданое бабушки. В узком боковом отделе он находил ордена и медали Исмагиля–абы. Даже по нынешним скептическим меркам людей, не нюхавших войны, награды отчима были высокие, и было их действительно много: девять. А первый орден отчим получил в тридцать девятом, на озере Хасан. Рассматривая вновь эти ордена, к которым в детстве его тянуло как магнитом, Фуат Мансурович вспоминал: хоть и трудно было принимать в те годы гостей, а все-таки праздники не обходились без них. Водкой тогда баловались только по особо важным случаям или ставили бутылку–другую в красном углу стола для дорогих и редких гостей — не по карману была она мартучанам. А готовили хозяева, ждавшие гостей, за неделю–две до праздников «бал» — разновидность русской бражки, медовухи. Напиток не крепкий, но с градусами, и делали его в каждом доме по своим рецептам. Людей, гнавших подобное зелье на продажу, не было, а на производство «бала» для себя власти смотрели сквозь пальцы.
Фуат Мансурович, перебирая награды, вспоминал, что обычно в праздничные дни отчим прилаживал на свой полувоенный френч только вот эти три ордена, теперь-то Бекиров знал им цену — ордена Славы. Но это было давно–давно, когда отчим со своей матерью, бабушкой Зейнаб–аби, только приехал к ним насовсем; тогда он еще разъезжал на «диаманте» и не пропускал ни одной игры в волейбол за «Локомотив», команду станции, за которую играл еще до войны. Раньше за ордена и медали выплачивали деньги. Фуат помнил это хорошо, об этом и сопливые мальчишки говорили, и соседки судачили. Пусть не ахти какие деньги, но, поскольку у отчима наград было немало, и если учесть, что в Мартуке каждую копейку приходилось считать, ибо заработать-то особенно негде было, «наградные» являлись большим подспорьем. С наградных-то и баловал Исмагиль–абы иногда Минсафу–апа и Фуата. Но выплаты очень скоро отменили. В Мартуке событие это, считай, никого, кроме отчима, не коснулось. Фуат помнил, как переживал, маялся отчим, ведь выплаты были не только подспорьем семье, а как-то поднимали его в глазах сельчан: не просто фронтовик, а воевал как надо, потому и почет, награды… и вдруг как обухом по голове! Маялся отчим еще и потому, что были люди, намеренно подначивавшие его, называя ордена «железками»; по их словам выходило, что теперь, после отмены выплаты, все равно, хорошо ты воевал или за спины товарищей прятался. Война, мол, кончилась, новая жизнь началась — все с нуля, старое, мол, перечеркнули. И еще помнит Фуат, как у них дома на Октябрьские праздники отчим подрался из-за этого с каким-то мужиком, приехавшим из Оренбурга с мелочной торговлей.
— Провокатор, сволочь! — кричал разъяренный Исмагиль-абы, и рыжие веснушки, словно капли крови, горели на его мертвенно-бледном лице.— Я бы таких, как ты, расстреливал на месте, гнида, спекулянт…
Его едва удерживал, обхватив сзади, первый друг и первый силач в округе Алексей Тунбаев.
А торговец, ретируясь, показывал кукиш и зло огрызался: