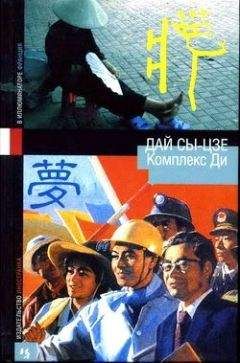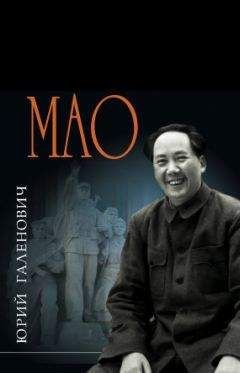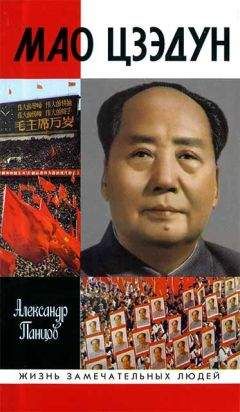Илья Суслов
Прошлогодний снег
Очень тяжело быть эфиопом.
Ну, идешь ты, скажем, по Воронежу, а все видят, что ты — эфиоп.
Думаете, что французу легче? Ничуть. Да будь ты трижды француз, хотел бы я на тебя посмотреть в гастрономе в Москве в Марьиной Роще, когда ты пытаешься объяснить продавщице, что тебе нужно двести грамм краковской колбасы, сто пятьдесят — любительской и десяток яиц по рубль пять.
Нелегко быть якутом. Ты якут, а все думают, что ты китаец. И всем интересно знать, что думает Мао Цзе-Дун о ближневосточных проблемах. А ты в этом деле ни бум-бум. Противно.
Я еврей. Еврею везде трудно. Ему плохо в Жмеринке. Ему очень трудно в Риме. Ему ужасно тяжело в Нью-Йорке. Его мучает Париж. Ему тошно в Монреале. Он везде — в гостях. Он везде — хуже татарина. Последнее замечание говорит о том, что быть татарином исключительно тяжело.
Кровавое столетие, в котором нам посчастливилось жить, рассеяло русских евреев по белому свету. Межвременье в России (я называю межвременьем промежуток времени от Сталина до нового Сталина) дало возможность мне, русскому еврею, уехавшему в Америку, найти читателей среди русских евреев, уехавших в Израиль. Кто бы мог подумать, что Бог даст нам такую возможность? Но Ему лучше знать, как нам найти дорогу друг к другу. Иначе сидели бы мы с вами кто в Одессе, кто в Москве, кто в Черновицах, кто в Тбилиси, кто где, и все вместе мы бы делали одно большое ненужное дело. И боялись бы каждого шороха на улице. И ждали бы дня больших ножей. И дрожали бы за ужасную судьбу своих детей. И не было бы у нас с вами ни сегодняшнего, ни завтрашнего дня. И стояли бы мы в длинных очередях России за хлебом, сахаром, водкой и счастьем. И, как всегда, все кончалось бы за несколько человек до нас. И никогда бы мы не узнали, что очереди в России исчезнут только тогда, когда исчезнет очередь у мавзолея Ленина.
Очень тяжело быть эфиопом. И евреем быть тоже тяжело.
Но у нас есть Израиль.
И от одного этого ты чувствуешь себя человеком на все сто процентов.
Обстоятельства мои сложились так, что я должен был ехать в Америку. Будем ли мы счастливы здесь? Кто знает? Кто?
Но я еврей. И вы, живущие там, в Израиле, — мои братья. Мои друзья. Моя семья. И мы не будем судить друг друга. Мы будем любить друг друга. Потому что мы — одной породы, одних несчастий, одних радостей и одних надежд.
И надежды эти будут существовать, пока существует Израиль. А он — навсегда. Потому что, как учит история, получен ответ на «еврейский вопрос». И ответ этот — никогда больше!
А перед моими глазами сейчас лица моих товарищей, оставшихся в России, тех, кому до сих пор не дали уехать. Вы знаете их имена, вы помните их глаза, вы понимаете, как им страшно и тяжело там.
Потому что самое тяжелое — быть евреем в России.
Им, этим оставшимся, я и посвящаю мою маленькую повесть.
Илья Суслов
«… Умирает мартовский снег. Мы устроим ему веселые похороны».
Б. Окуджава
У меня заболел живот. Сначала я терпел. Я думал, что я съел что-нибудь не то. А потом внутри меня что-то оборвалось, и боль вырвалась наружу.
— Где болит, Толик? — встревоженно спрашивала мама.
— Ой, всюду, ой, больно, — стонал я.
Прилетела «скорая помощь». Доктор сказал: «По-моему аппендицит», и мы помчались по Москве в поисках свободной койки в больнице. Доктор чертыхался. Всюду ему говорили: мест нет. Наконец он сдал меня в какую-то больницу в Сокольниках и облегченно сказал: «Выздоравливай, шпингалет».
Я лежал в коридоре, зажимая руками боль в правом боку, и думал о том, что будет завтра в школе. Мария Владимировна по журналу будет отмечать присутствующих. «Нету его!» — торжествующе скажет Марик Хазанов, мой сосед по парте. «Где он?» — строго спросит Мария Владимировна. Марик сделает постное лицо, поднимет глаза к небу и разведет руками. «Не кривляйся. Хазанов, — скажет Мария Владимировна. — Может быть, твой товарищ заболел, а ты рожи корчишь. Ты бы лучше узнал, что с Толиком». Марик скажет: «Позвольте мне, Мария Владимировна, сбегать сейчас к нему домой и узнать. Может, с ним что-нибудь случилось? Может, у него тетя заболела?» Мария Владимировна скажет: «Только быстро». (Она меня любит и боится за меня.) И Марик подмигнет Вовке Мулину, схватит шапку и побежит в кинотеатр «Перекоп» смотреть «Судьбу солдата в Америке».
«Вот гад! — подумал я, стискивая зубы. — Я лежу и умираю от аппендицита, а он в кино побежал. Тоже мне, товарищ».
Честно говоря, на его месте, я бы поступил так же, но сейчас мне было очень обидно.
В коридоре, где я лежал, было темно. Я чувствовал, что он весь заставлен кроватями. Всюду постанывали, вздыхали, храпели люди. Потом потолок, стал плавно опускаться на меня, лампочка в углу стала большой, радужной. Она горела все ярче, ярче, ярче… Я закричал.
Кто-то подошел, потрогал мне живот и сказал: «Немедленно на стол».
Меня положили на белую тележку и отвезли в операционную.
Мне было ужасно стыдно. Я лежал голый перед тремя девчонками моего возраста.
Я шепнул одной:
— Сходим в кино после операции?
Она сказала:
— Лежи уж. Разговорился. Сейчас чикнем тебя где надо, будешь потом ходить в кино без нас.
Девчонки захихикали. Я сказал:
— Подумаешь, надела халат и воображает.
Вошла врачиха и сказала:
— Это кто у нас такой разговорчивый? Больной, в таком положении не назначают свидания девушкам.
Пока она говорила, мне сделали укол. Я вдруг испугался, что сейчас умру. Я сказал:
— Доктор, похороните меня на Красной площади.
— Типун тебе на язык, дурачок, — сказала доктор и полезла мне в живот чем-то холодным и твердым. Я потерял сознание.
— Ну, ты просто герой, — сказала доктор, похлопывая меня по щеке. — Через десять минут мы бы не досчитались еще одного болтуна. Ну-ка, погляди, что мы у тебя отрезали.
— Господи, — сказал я, — сколько еще дряни в человеке! На что ему аппендицит?
— Много разговариваешь, — строго сказала доктор, — тоже мне, Спиноза. Отправьте его в палату, пусть отдыхает. Следующий!
Палата у нас была большая. Мы лежали после операции, и, так как отходил наркоз, мы стонали, нам было больно. Наверное, это было очень смешно. Тон всем задавал мой сосед справа.
— О-о-о! — тоненько подвывал он.
— Ух! — из правого угла выдыхал кто-то.
— М-м-м! — мычал я после него.
— Ах-х! — подхватывал эстафету сосед слева баском. В общем, хор Пятницкого.
К утру утихло.
Мы, измученные от бессонницы, озирались по сторонам и смотрели, кто же рядом.
Утренний обход совершал профессор Дунаевский. Говорили, что он брат известного композитора.
Он начал с койки моего соседа справа.
— Ну что, старик, — сказал он, посмотрев больничную карту и пощупав его пульс. — Ты долго еще будешь меня мучить? Ведь ты меня извел, чертов старик.
— Простите, профессор, — сказал старик справа. — Вы же умный человек, и знаете, как трудно решиться на такую операцию. Я должен посоветоваться с родными.
— Абрам Моисеевич, — загремел профессор, — не морочьте мне голову! Вы уже месяц советуетесь с родными.
Я сам вам сделаю эту операцию. Чего вы боитесь? Раз-два — и готово! Ну?
— Ах, профессор, — сказал старик справа. — Поставьте себя на мое место. Я старый больной человек. Мне семьдесят восемь лет. Когда вам будет столько лет, я хотел бы взглянуть, как легко вы будете решать жизненные вопросы. Я вызвал Ривочку из Днепропетровска. Как она скажет, так мы и сделаем. Ну, уже хорошо?
— Трам-тарарам! — сказал профессор Дунаевский. — Хорошо, подождем Ривочку.
— Дедушка, — сказал я, когда профессор, окруженный ассистентами и сиделками, вышел из нашей палаты, — дедушка, если вам до сих пор не сделали операцию, то почему вы стонали всю ночь, как будто вас изрезали вдоль и поперек?
— О! — сказал Абрам Моисеевич. — Еще один критик на мою голову. Я стонал потому, что мне было больно на вас смотреть. Когда мне будут делать операцию, ты мне поможешь стонать. Ну, ты понял?
По-моему, Абрам Моисеевич очень любил свою болезнь. У него была грыжа. Каждый день он давал телеграммы во все города Союза и за рубеж. Так как все родственники знали о грыже, он писал кратко: «Делать или не делать тчк Абрам Моисеевич».
Со всего света к нему шли ответные телеграммы. Он разделил их на три кучки. В одну кучку он положил телеграммы: «Делать», во вторую — «Не делать». Третья кучка включала в себя неопределенность: «Как хочешь», «Не знаю», «Мне бы ваши заботы», «Абрам, не сходи с ума». Эти телеграммы Абрам Моисеевич не любил. Он говорил: «Смотри, Толик, какие на свете есть равнодушные люди. Это даже не люди, это звери. Старый, больной дядя советуется с ними по жизненно важному вопросу. Что им стоит сказать „да“ или „нет“. Так им не жалко денег на такие дурацкие ответы. Толик, ты должен любить людей и не любить не людей. Ну, ты понял?»