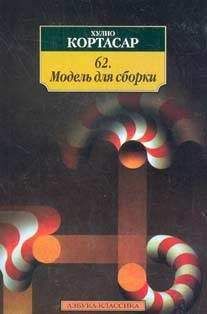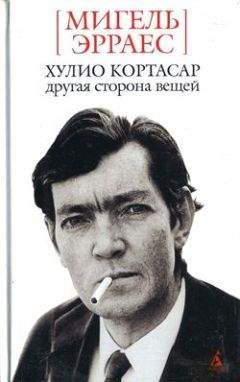Хулио Кортасар
62. Модель для сборки
Роман
Многие читатели, наверно, заметят, что в этом произведении я кое-где преступаю литературные условности. Приведу лишь несколько примеров: аргентинцы у меня то и дело переходят с «вы» на «ты», когда это для них естественно в диалоге; житель Лондона, только недавно бравший уроки французского, вдруг начинает говорить на нем с поразительной беглостью (более того, еще и в переводе на испанский), едва пересек Ла-Манш; география, расположение станций метро, свобода, психология, куклы и время явно перестают быть тем, чем они были под владычеством Цинары.
Возможно, кое-кому это покажется странным. Таким читателям я хочу заметить, что на том уровне, на котором здесь ведется повествование, уже нельзя говорить, что автор что-то там «преступает»; префикс «пре» здесь следует включить в ряд других префиксов, вращающихся вокруг глагола «ступать»: «наступать», «отступать», «выступать» – все эти понятия равно совместимы с намерениями, высказанными некогда в заключительных абзацах главы 62 «Игры в классики», намерениями, которые объясняют название этой книги и, надеюсь, осуществляются в ее изложении.
Подзаголовок «Модель для сборки» может навести на мысль, что куски повествования, разделенные на страницах интервалами, предлагаются автором как поддающиеся перестановке. Если с некоторыми это и возможно проделать, все же природа задуманной конструкции иная, и она сказывается уже в характере изложения, где повторы и перемещения должны создать ощущение свободы от жесткой причинной связи, но особенно в характере замысла, где еще более настойчиво и властно утверждается простор для комбинаций. Выбор, к которому придет читатель, его личный монтаж элементов повествования – это, во всяком случае, и будет той книгой, которую он захотел прочитать.
– Попрошу замок с кровью, – сказал толстяк за столиком.
Почему я зашел в ресторан «Полидор»? Почему – если уж заняться вопросами такого рода – купил книгу, которую, вероятно, не буду читать? (Наречие здесь – увертка, ведь мне уже не раз случалось покупать книги с тайной уверенностью, что они навсегда затеряются в моей библиотеке, и все же я их покупал; загадка состоит в самом факте покупки, в мотиве приобретения этой бесполезной собственности.) И, продолжая цепь вопросов, почему, войдя в ресторан «Полидор», я сел за столик в глубине, перед большим зеркалом, иллюзорно удваивавшим тусклое уныние зала? И еще одно звено цепи: почему я заказал бутылку «сильванера»?
(Но последний вопрос оставим на потом: бутылка «сильванера» – это, возможно, один из фальшивых звуков в будущем аккорде, разве что аккорд этот окажется совсем другим и будет включать в себя бутылку «сильванера», как включит графиню, книгу и только что заказанное толстяком блюдо.)
– Je voudrais un château saignant [1] , – сказал толстяк за столиком.
Судя по отражению в зеркале, толстяк сидел за соседним столиком, позади Хуана, и поэтому его образ и его голос должны были проделать противоположно направленные пути, чтобы, встретившись, привлечь к себе внезапно обострившееся внимание. (Так же книга в витрине на бульваре Сен-Жермен: внезапный бросок вперед белой обложки «NRF» [2] , выпад на Хуана, как прежде – образ Элен, а теперь – фраза толстяка за столиком, просившего «замок с кровью»; как покорное согласие Хуана сесть за этот дурацкий столик в ресторане «Полидор» спиною ко всему миру.)
Конечно, Хуан был единственным посетителем, для которого заказ толстяка имел второй смысл; автоматически, иронически, как умелый переводчик, привыкший мгновенно решать любую переводческую проблему в той борьбе с временем и безмолвием, которую воплощает его кабина при конференц-зале, он построил ловушку, если слово «ловушка» уместно для констатации того, что saignant [3] и sanglant [4] равноценны и что толстяк за столиком заказал «замок с кровью», – во всяком случае, Хуан построил эту ловушку, ничуть не подозревая, что смещение смысла во фразе вдруг заставит сгуститься другие образы, образы из далекого прошлого или нынешнего вечера, – книгу или графиню, образ Элен, покорное его согласие сесть спиною к залу за столик в глубине ресторана «Полидор». (И заказать бутылку «сильванера», и пить первый бокал охлажденного вина в тот момент, когда образ толстяка в зеркале и его голос, шедший из-за спины Хуана, разрешились в то, что Хуан не мог назвать, ибо слова «цепь» или «сгусток» были всего лишь попыткой локализовать на уровне речи нечто, проявлявшееся как мгновенное противоречие, нечто, обретавшее форму и одновременно растворявшееся, и это уже не могло быть выражено членораздельной речью кого бы то ни было, даже столь опытного переводчика, как Хуан.)
Во всяком случае, ни к чему было усложнять. Толстяк за столиком заказал «кровавый замок», его голос вызвал к бытию другие образы, особенно ярко книгу и графиню, чуть менее ярко – образ Элен (быть может, потому, что он был ближе, не то что более привычным, но более неотъемлемым в повседневной жизни, тогда как книга была чем-то новым, а графиня – воспоминанием, впрочем, воспоминанием необычным, ведь дело шло не столько о графине, сколько о фрау Марте и о том, что случилось в Вене, в «Гостинице Венгерского Короля», но тогда, в последнюю минуту, все стало графиней, и, в конце концов, господствующим образом и прежде была графиня, образом не менее ярким, чем книга или фраза толстяка или аромат «сильванера»).
«Надо признать, что у меня особый талант праздновать сочельник», – подумал Хуан, наливая себе второй бокал в ожидании hors d'œuvres [5] . Неким подступом к тому, что с ним произошло, была дверь ресторана «Полидор», решение – внезапное и с сознанием его нелепости – открыть эту дверь и поужинать в этом унылом зале. Почему я вошел в ресторан «Полидор», почему купил книгу и раскрыл ее наугад и, тоже наугад, прочитал первую попавшуюся фразу за секунду до того, как толстяк заказал полусырой ростбиф? Если я попытаюсь это проанализировать, я как бы все свалю в хозяйственную сумку и непоправимо искажу. Самое большее – я могу пытаться повторить в терминах мысли то, что происходило в другой «зоне», могу стараться отделить то, что вошло в этот внезапный сгусток по праву, от того, что другие мои ассоциации могли включить в него как нечто поразительное.
Но в глубине души я знаю, что все – ложь, что я уже отдалился от того, что со мною только что произошло, и, как уже не раз бывало, все сведется к тщетному желанию понять, возможно упуская призыв или тайный сигнал от самой сути, ту тревогу, в которую она меня повергает, то мгновенное явление мне какого-то иного порядка, куда прорываются воспоминания, скрытые силы и сигналы, чтобы создать ослепительную единую вспышку, меркнущую в тот самый миг, когда она меня убивает и выбивает из меня самого. Сейчас от всего этого осталось лишь чувство любопытства, исконное человеческое желание: понять. Да еще спазм в устье желудка, тайная уверенность, что именно там, а не в логическом упрощении начинается и пролегает нужный путь.
Ясно, что этого мало; в общем, надо мыслить, а значит, нужен анализ, нужно отделить то, что действительно составляет этот вневременной миг, от того, что в него привносят ассоциации, чтобы приблизить его к тебе, сделать больше твоим, перенести по сю сторону. Но совсем худо придется, когда ты попытаешься рассказать об этом другим. Всегда ведь наступает минута, когда надо попытаться рассказать одному из друзей, к примеру Поланко или Калаку или всем сразу за столиком в «Клюни», возможно надеясь в душе, что самый факт рассказа вырвет опять из небытия тот сгусток, придаст ему наконец какой-то смысл. И будут они сидеть и слушать тебя, будет там также Элен, тебе будут задавать вопросы, стараясь помочь вспомнить, словно есть смысл в воспоминании, лишенном той особой силы, которая в ресторане «Полидор» сумела снять его свойства минувшего, явить его тебе как нечто живое и угрожающее, как воспоминание, сорвавшееся со своей привязи во времени, чтобы быть в тот самый миг, когда оно вновь исчезает, чтобы стать некой особой формой жизни, настоящим, но в другом измерении, силой, действующей по другой траектории. Однако слова не находились, потому что не было мысли, способной охватить эту силу, превращающую обрывки воспоминаний, отдельные, бессмысленные образы во внезапно слившийся в единое целое умопомрачительный сгусток, в живое созвездие, аннигилирующее в момент своего явления, – этакое противоречие, как бы утверждающее и одновременно отрицающее то, что Хуан, пьющий сейчас второй бокал «сильванера», будет впоследствии рассказывать Калаку, Телль, Элен, когда встретится с ними за столиком в «Клюни», и что теперь ему надо хоть как-то освоить, словно сама попытка фиксировать это воспоминание не доказывала, что это бесполезно, что он лишь разбрасывает темные мазки по непроглядному мраку.