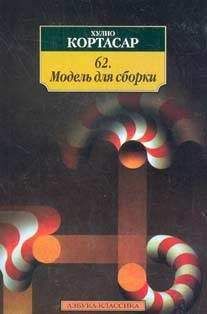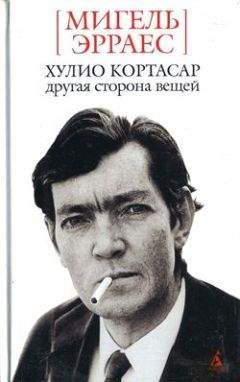Второе, что следовало отметить, была графиня, его ощущение графини, определившееся на углу улиц Месье-ле-Пренс и Вожирар – но не потому, что на этом углу было что-либо способное напомнить ему о графине, разве что клочок красноватого неба да запах сырости из подъезда, которые внезапно оказались как бы мостом, равно как Дом с василиском в Вене мог бы в свое время послужить для него переходом на территорию, где ждала графиня. Или же, если вспомнить атмосферу кощунства, постоянной греховности, в которой, вероятно, жила графиня (согласно версии той легенды, в не слишком интересной хронике, читанной Хуаном много лет назад, задолго до Элен и фрау Марты и дома с василиском в Вене), тогда перекресток с клочком красноватого неба и сырой подъезд неотвратимо сливались с убеждением, что именно сочельник благоприятен для появления графини, для ее иным способом не объяснимого присутствия в сознании Хуана – он не мог избавиться от мысли, что графине кровь была особенно приятна в такую ночь, как эта, – при колокольном звоне и песнопениях всенощной была особенно вкусна кровь девушки, корчащейся со связанными руками и ногами, так близко от пастухов, и ясель, и агнца, смывающего своей кровью грехи мира. Так что книга, купленная за минуту до того, переход к графине, а потом, уже как-то сразу, без перехода, нелепая, со зловещим фонарем дверь ресторана «Полидор», предвидение полупустого зала, освещение которого в ироническом и раздраженном настроении не назовешь иначе как мертвенным, а в зале том движутся женщины в очках и с салфеткой, и тут легкий спазм в желудке, нежелание входить – да и впрямь не было никакого резона входить в подобное заведение, – быстрый гневный диалог, как всегда при бичевании своего извращенного нрава: Войду / Нет / Почему нет / Ваша правда, почему нет / Тогда входите, сударь, по-вашему, тут мрачно, и поделом / За дурость, конечно / Unto us a boy is born, glory hallelujah [8] / Похоже на морг / Он и есть, давай входи / Но еда, наверное, отвратная / А ты же не голоден / Да, это так, но надо ведь будет что-то заказать / Закажи что-нибудь и выпей / Это идея / Охлажденное вино, хорошее охлажденное вино / Ну вот видите, сударь, входите. Но если мне хотелось выпить, почему я зашел в ресторан «Полидор»? Я знал столько уютных баров на правом берегу, вдоль улицы Комартен, где к тому же всегда можно было завершить празднование сочельника в вертепе какой-нибудь блондинки, которая спела бы мне «ноэль» Сентонжа или Камарга, и мы бы недурно позабавились. То-то и оно, как начнешь размышлять, так уж вовсе не понятно, что именно побудило меня после этого диалога все же войти в ресторан «Полидор», постучаться в дверь почти бетховенским стуком, войти в ресторан, где пара очков и салфетка под мышкой уже решительно двигались ко мне, чтобы повести к самому дрянному столику, столику обманов, где сидишь лицом к стене, а стена-то переряжена зеркалом, подобно многим другим вещам в этот вечер и во все вечера, и особенно подобно Элен; вот и сиди лицом к стене, потому что с другой стороны столика, где в нормальных условиях любой посетитель мог бы сесть лицом к залу, уважаемая дирекция ресторана «Полидор» соизволила водрузить огромную пластиковую гирлянду с цветными лампочками, дабы показать свою заботу о христианских чувствах дорогих клиентов. Ускользнуть от воздействия всего этого невозможно: если я, несмотря ни на что, согласился сесть за столик спиною к залу, имея перед глазами зеркало с обманным ликом над отвратительной рождественской гирляндой (les autres tables sont réservées, monsieur / Ça ira comme ça, madame / Merci, monsieur [9] ), значит, нечто для меня непонятное, но, видимо, глубоко мне присущее заставило меня войти и заказать бутылку «сильванера», которую можно было так легко и приятно заказать в другом месте, среди других огней и других лиц.
Если предположить, что рассказчик будет рассказывать на свой лад, то есть что многое уже будет молча рассказано находящимся в «зоне» (понимающей все без слов Телль или Элен, которую никогда не волнует то, что волнует тебя) или что из листов бумаги, магнитофонной кассеты, книжки, живота куклы сложится что-то совсем не то, чего ждут они от твоего рассказа; если предположить, что рассказываемое будет нисколько не интересно Калаку и Остину и, напротив, отчаянно увлечет Марраста или Николь, особенно Николь, безнадежно в тебя влюбленную; если предположить, что ты примешься бормотать длинную поэму, где говорится о Городе, который они тоже любят, которого боятся и по которому порой бродят; если ты в это время, как бы взамен рассказа, снимешь с себя галстук и наклонишься, чтобы сунуть его, предварительно аккуратно сложив, в руки Поланко, который удивленно на него воззрится и в конце концов передаст его Калаку, не желающему его брать и возмущенно вопрошающему Телль, которая, пользуясь моментом, подстраивает ему ловушку в покере и выигрывает у него партию; если предположить такой абсурд, что в «зоне» в такую минуту могут произойти подобные вещи, стоило бы спросить себя – а есть ли смысл в том, чтобы они ждали, когда ты приступишь к рассказу, и не удовлетворит ли куда успешнее банановый пончик, о котором думает Сухой Листик, это неопределенное желание тех, кто тебя окружает в «зоне», равнодушных и вместе настойчивых, требовательных и насмешливых, как ты сам по отношению к ним, когда приходит твой черед слушать и смотреть, как они живут, причем ты знаешь, что все это идет с той стороны и уходит бог весть куда и именно поэтому почти для всех них так важно?
И ты, Элен, тоже будешь на меня так смотреть? Я увижу, как будут уходить Марраст, Николь, Остин, небрежно прощаясь, с такой миной, словно они пожимают плечами, или же как они будут переговариваться между собой, потому что им тоже надо будет рассказывать, они, видите ли, явились с новостями из Города или же собираются на самолет или на поезд. Я увижу Телль, увижу Хуана (ведь может статься, что я тоже в этот миг увижу Хуана там, в «зоне»), увижу Сухой Листик, Гарольда Гарольдсона и увижу графиню или фрау Марту, если окажусь в «зоне» или в Городе, увижу, как они уходят, глядя на меня. А ты, Элен, ты тоже уйдешь с ними или медленно направишься ко мне и с твоих ногтей будет сочиться презрение? Была ты в «зоне» или привиделась мне во сне? Мои друзья уходят смеясь, мы встретимся снова и будем говорить о Лондоне, о Бонифасе Пертейле, о Городе. А ты, Элен, неужто ты опять будешь только именем, которым я защищаюсь от ничто, призраком, который я выдумываю с помощью слов, меж тем как фрау Марта или графиня приближаются ко мне и глядят на меня?
– Прошу замок с кровью, – сказал толстяк за столиком.
Все было гипотетично, но вполне можно было предположить, что, если бы Хуан не открыл машинально книжку Мишеля Бютора за какую-то долю времени до того, как посетитель сделал свой заказ, слагаемые чувства, от которого у него сжался желудок, остались бы каждое порознь. Но вот случилось так, что с первым глотком охлажденного вина, в ожидании, когда ему принесут устрицу «сен-жак», которую ему вовсе не хотелось есть, Хуан раскрыл книжку, чтобы без всякого интереса узнать, что в 1791 году автор «Атала» и «Рене» соизволил созерцать Ниагарский водопад, дабы впоследствии сделать знаменитое его описание. В это мгновение (он как раз закрывал книгу, потому что читать не хотелось и свет был отвратительный) он отчетливо услышал просьбу толстяка за столиком, и все это сгустилось в тот миг, когда он поднял глаза и обнаружил в зеркале отражение толстяка, чей голос дошел до него сзади. Нет, тут невозможно отделить одно от другого: отрывочное впечатление от книжки, графиню, ресторан «Полидор», замок с кровью и, пожалуй, бутылку «сильванера»; из них возник вневременной этот сгусток, умопомрачительная, блаженная жуть сверкающего созвездия, дыра для прыжка, который ему предстояло совершить и который он не совершит, потому что это не был бы прыжок к чему-то определенному, и вообще не был бы прыжок. Скорее наоборот, из этой головокружительной пустоты на него, Хуана, прыгали метафоры, как пауки, как прыгали всегда эвфемизмы или слойки из неуловимых смыслов (вот опять метафора), к тому же старуха в очках уже ставила перед ним устрицу «сен-жак», а в таких случаях во французском ресторане надо всегда благодарить словесно, иначе все пойдет наперекос, вплоть до сыров и кофе.
О Городе – который впредь будет упоминаться не с большой буквы, ведь нет причины выделять его, то есть придавать ему особое значение в отличие от городов для нас привычных, – надо бы поговорить прямо сейчас, так как все мы были согласны в том, что с городом могут быть связаны любая местность и любой предмет, вот поэтому и Хуан не считал невозможным, что происшедшее с ним только что исходило каким-то образом из города, было одним из вторжений города или ведущих к нему галерей, возникших в этот вечер в Париже, как могли бы они возникнуть в любом из городов, куда его забрасывала профессия переводчика. По городу случалось бродить всем нам, всегда невольно, и, возвратясь, мы толковали о нем в часы «Клюни», сравнивали его улицы и площади. Город мог явиться в Париже, мог явиться Телль или Калаку в пивной в Осло, кое-кому из нас случалось переходить из города в постель в Барселоне, или же бывало наоборот. Город не требовал объяснения, он был: он возник однажды во время разговора в «зоне», и, хотя первым принес новости из города мой сосед, вопрос о том, побывал ты или не побывал в городе, стал делом самым обычным для всех нас, кроме Сухого Листика. И раз уж зашла об этом речь, следует также сказать, что «мой сосед» – также было у нас обычным выражением, мы всегда называли кого-нибудь из нашей компании «мой сосед», ввел это выражение Калак, и мы употребляли его без всякой иронии – просто званием «сосед» наделяли, как сказано, кого-то из наших, словно приписывая ему роль «дядьки», «воспитателя», «baby-sitter» [10] рядом с чем-то из ряда вон выходящим, тем самым ему поручалось изрекать здравое суждение в своей временной отчужденной роли, притом ни на йоту не теряя качество «нашего», как любой пейзаж в местах, где мы бывали, мог нести на себе черты города или же город мог оставить что-то свое (площадь с трамваями, ряды с торговками рыбой, северный канал) в любом из мест, по которым мы ходили и где жили в то время.