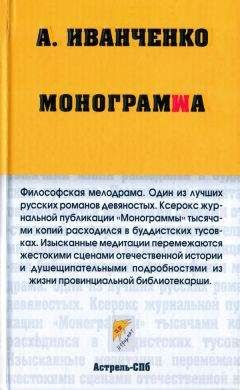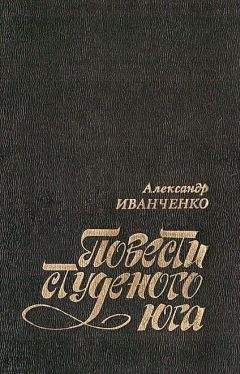№ 1–4. Наконец приехали. Было раннее утро лета, июль. Забитая туманом и гнусом станция пахла пихтой и углем. Небольшой лесной разъезд назывался Лозьва.
Высадились у полотна, прилегли на траву, отдыхая наскучавшим по земле телом. Огляделись. Состав отогнали на запасный, охрана ушла. Разожгли, спасаясь от комарья, костры и теперь ходили от костра к костру и заново знакомились. К вечеру пришел комендант и, построив выселенцев в несколько рядов вдоль пути, сказал:
— Прибыли, значит, граждане спецпереселенцы, на место. Будем рыть землянки. Пока ройте вон там, — он махнул на просвет в тайге, — потом начнем закладывать бараки. Работать начнем завтра. Инструмент привезут. Всё.
Ночевали эту ночь у костров, растянувшись на километр вдоль путей, но не спали, а пели вольные, чуяли, последние, песни.
Работа была — валить лес. Разбили на десятки, выдали пилы и топоры. Мужики подрубали и пилили, бабы обрубали и сжигали сучья, молодые парубки и дивчата распиливали стволы на четырехметровые бобыли. Дети и старики рыли, пока тепло, землянки. Валили лес на дальних вырубах за болотами и вытягивали его оттуда на квелых голодных лошадях к полотну. Приходили с заготовок с ягодами, грибами.
Лето стояло жаркое, ягодное, парное, гроздьями свисали с неба невиданные кедровые шишки, бурела рябина, склонялась до воды черемуха. Тяжкие, набитые сумерками таежные глухари грузно вспархивали в чаще, но достать их было нечем, ружья не было. Наголодавшись, шли в тайгу, набирали в кепки жимолости и голубики, ели горстями еще зеленую бруснику. К осени пошла морошка, клюква, заготавливали на зиму грибы. Жить, казалось, было можно, тайга не скупилась, но предстоящих уральских морозов боялись, невиданное пугало. Парубки, сойдясь вечером у костра, шептались: надо уходить, пока есть силы, пока не наступила зима. И потихоньку уходили, таяли, прихватив своих чернооких дивчат. Оставались только слабые, обремененные семьями, да старики. Шурка тоже все грозился матери уйти и ушел бы, да взрослые парубки его с собою не брали. Наконец сговорился с Гришей, сыном дядьки Степана, и в назначенный для отправки состава с лесом день их заложили в вагоне бревнами, устроив им там удобное лежбище. Галина насобирала им ведро забуревшей уже брусники, оторвала от детей полбулки хлеба, перекрестила их и сказала:
— С Богом, хлопцы. Кланяйтесь, если доберетесь, милой Украине.
За день до отправки состава они влезли в свое логово и затихли. Состав описали и отправили. Но до родины они не доехали. Вернувшийся экспедитор рассказывал, что разбиравшие кладку рабочие лесозавода нашли их где-то под Казанью раздавленными раскатавшимися бревнами, истощавшими до костей. С обглоданными с голодухи сосновыми баланами беглецы лежали в обнимку, как с людьми…
Наступила зима. Вырытую неглубоко землянку Галины (попалась скала, новой начинать уже не стали) часто доставал мороз, жили голодно. Хлеба почти не давали, кормились больше похлебкой с перлом да овсянкой из отобранного у лошадей овса. Лошади спотыкались, падали, вытягивали из дремучих болот ель да сосну, утопая по брюхо в северных мхах. План был на каждое тягло отдельный. Работал Василий с братом Степаном в паре, пилили и попеременке вывозили. Пошла октябрьская снежная мокрядь, лошадка их уже совсем падала от голода на коленки, и они ее едва поднимали, впрягались вместе с ней. За лошадь спросят. Наготовленные на зиму березовые веники лошади помогали мало, сена и овса не хватало. Теперь подкармливали скотину из своего скудного пайка, животину жалели больше, чем себя. Так их лошаденка, груженая по плечи, и завязла в болоте, легла, вывернувшись из оглобель, в мох. Вывозил в тот день Степан. Сидел рядом с лошадью, привалившись к еловому стволу, и тяжело дышал.
— Чего сидим, дядя?! — выскочил на визиру десятник, ездивший по лесу верхами. — План у меня хотишь сорвать? Я т-тебя! А ну поднимай падаль!
— Скотину бить не буду, — хмурю возразил Степан, не оборачиваясь на угрозу.
Десятник, не сходя со своей сытой кобылы, стал стегать конька плетью по глазам, но тот не поднимался.
— Нич-чего, жрать захочешь, поднимешь, контра… — выругался десятник и ускакал, осыпая кору и сучья.
Степан распряг лошадь. Конь был уже не жилец: вынутая кнутом и обидой слеза мерзла на ветру. Кое-как он уговорил лошадь подняться, снял и бросил в болото хомут. Привязав ей на шею покрытый мхом булыжник, Степан свел ее с тропы и тихонько столкнул в хлябь. Снял кепку и пошел, не оглядываясь, в землянку, не чуя бледной, тоже уже мертвой плешью ни колючего снега, ни сухой осыпающейся иглы.
В землянке ждала кормильца и пухла от голода жена Дарья. Он лег рядом с ней, отвернулся к земляной стенке и в два дня, переводя дух от трудов и несправедливости, помер. За ним тихонько ушла и жена, успев еще переодеть хозяина в чистое исподнее. Опять, как когда-то давно, на фотографии, тесно приникла к нему, прощаясь, отдавая ему уже ненужное тепло.
Хоронили их в один день. Дарье достался богатый, просторный, с чужого тела, гроб, а ее рослому мужику в плечах узкий и не по росту.
— Не влезает, значит, — сказал растерянно плотник, скребя долотом затылок. — Оммерился, что ли?
Десятник подошел к стоявшему на снегу ящику и с размаху вбил покойника в лоб своим кованым сапогом. Тот крякнул и, скособочившись, лег как надо.
— То-то же, сволочь! — прошипел десятник. — Я тебе дам не влезать, такую лошадь, кулацкая морда, загубил! — И пошел вон, поскрипывая сыромятиной, подрагивая бедром, попыхивая махрой.
Хоронить было некому, всех угнали на работу. Так с этими мертвыми делами плотник сам со своим сыном и управлялся. Зато кормили исправно. И выпивки на упокой кулацкой души давали.
К весне умерли и родители Марины, сначала маленькая сестра Груня, потом мать, потом отец. Груня все просила поесть чего-нибудь домашнего, хлебного. Ей жевали в тряпочку кислицу, пряную лиственничную иглу, но ее тошнило, трясло. Перед смертью она попросила заплести ей ее любимую синюю ленту и сказала, что хочет домой, на Украину. Схоронили Груню прямо в землянке, вырыв ей по-татарски ход в стене. Сил подняться и долбить мерзлую землю уже не было, и решили перенести Груню наверх весной, если доживут. Но дожить не надеялись.
— Марьяна, — сказала Галина, обращаясь к дочери и сыну Гришуне, — смотрите не хороните меня одну, дождите, пока отец помрет, чтоб в одну яму класть, а то сил на обе не хватит… Да пойдете за гробом, так теплей ноги-то обувайте — вон мочалом-то, что ли, оберните или мхом обложите, с кочек надергайте, а то простудитесь, вам жить… Спаси вас всех, Господи, грешных! Отца и за гробом любите, а я уж как-нибудь так там обойдуся, ему в жизни досталось… Василий, ты тоже долго не тяни, помоги им, если сможешь…
Отец долго не тянул и помер в тот же день, не помог детям. Но хоронить родителей не пришлось, а просто завалили их землянку оттаивающей землей и снегом и поставили над ней связанный из двух молодых еловых стволов крест. Детей разделили по разным детским домам: восьмилетнего Гришуню отправили еще дальше на север, в Покровск, а подросшую Марину — в соседний небольшой городок. Захватив прялку и кринку с родной землей, она погрузилась на телегу и отправилась по апрельской дороге в У.
№ 1. Лида прочитала недавно у одного писателя, что интересно было бы проследить, как постепенно сближаются пути палача и жертвы. Великая мысль! Индийская мысль! Вот, скажем, говорит этот писатель, будущая жертва собирает сейчас тюльпаны на альпийском лугу, а будущий ее палач в это самое время, где-нибудь в другой части света, за 8000 верст, вытаскивает удою ерша из реки… Серьезная мысль, но разрешается в то же время как-то наивно, считает Лида. Почему, например, палач вытягивает ерша, а жертва собирает цветы? Почему не наоборот? Что за странное убеждение, что палач — всегда палач, а жертва — навек жертва? Нам всем случается в этой жизни бывать и тем и другим… Когда палач становится окончательно палачом, когда жертва становится окончательно жертвой — и становятся ли? Возможно ли это?
Проследить, как весь путь этого первого человека (условно говоря, жертвы) складывается из предательств, лжи, лицемерия, измен, сделок с совестью и т. п., из его падений и возвышений, нисхождений в ущелье, в ад измены и зла, и восхождений к вершине, к добру, цветам, чистому верховному снегу; и то же самое с другим (палачом), те же нисхождения долу и восхождения, добро и зло, падения и возвышения… Только почему все-таки за 8000 верст? Зачем так далеко? Они могут жить в одной стране, на одной улице, даже в одной семье (и часто живут рядом), под одной крышей; быть матерью и сыном, мужем и женой, дочерью и отцом, просто друзьями. Их пути идут параллельно, пересекаются, расходятся, опять сближаются. Они всегда вместе — палач и жертва — сиамские близнецы, у них общее кровообращение; они карабкаются к одной и той же непонятной им сияющей вершине жизни, то опускаясь, то подымаясь, то теряя друг друга из виду, то сталкиваясь лицом к лицу, а кому из них случится на этом пути быть палачом, кому жертвой, когда они встретятся, — дело, как говорится, случая, ибо мы все друг для друга мука, все друг для друга обман, каждый для другого палач, считающий себя жертвой… Но чем являются друг для друга палач и жертва, если уж нужно разделять их, — знаем ли мы, хотим ли знать? Точно ли оба ненавидят или, может, один любит, а другой ненавидит? Или оба любят, даже обожают, друг друга? Не достигают ли они при сближении взаимной и величайшей, неземной любви — а мир так и плачет над ними, не распознав этого? Да и кто здесь палач, а кто жертва: палач ли, остающийся с муками совести, казнимый ими, — или жертва, все простившая своему палачу, потому что не простить невозможно: разве занесший над твоим горлом нож убийца не последний отзвук твоей жизни и разве не должны мы любить ее всю, вместе с уже затуманенным нашим дыханием ножом?